Русская литература Серебряного века. Поэтика символизма - [94]
Л.В. Усенко рассматривает творчество Гуро как характерный образец русского литературного импрессионизма. Мы ни в коем случае не оспариваем его интерпретацию или его право на это как специалиста по творчеству Е.Г. Гуро и как исследователя. Интересно, однако, разобраться, что именно он понимает под «импрессионизмом». Со ссылкой на статью В.А. Келдыша, на статью К.Д. Муратовой и некоторые работы других авторов говорится о существовании «промежуточного феномена» «на грани двух мировосприятий, двух литературных направлений – реализма и символизма», феномена, отличающегося «неуловимостью», «текучестью». «Они («пограничные явления», – разъясняет Л.В. Усенко) не имеют чаще всего устойчивой закрепленности в литературном процессе; даже в границах индивидуального творческого опыта»[345]. Сделав эти ссылки на других авторов, Л.В. Усенко формулирует собственную задачу:
«Цель нашей работы состоит в том, чтобы доказать, что в русской прозе начала XX в. отечественный импрессионизм существовал именно как пограничное явление»[346].
Иными словами, автор полагает, что «промежуточным феноменом» надлежит однозначно признать не что либо иное, а импрессионизм. Следует заметить, что такая однозначная «привязка» заведомо не согласуется с теми «неуловимостью», «текучестью», которые В.А. Келдыш назвал в качестве первейших признаков «промежуточного феномена». К «текучему» явлению лучше подходить диалектически – к нему надо либо прилагать массу конкретных названий или же не давать ему вообще наименований, претендующих быть в одном видовом ряду с терминами типа «реализм» и «символизм» (то есть с терминами, обозначающими стабильные, «уловимые» явления).
Впрочем, отношение к этой «привязке», естественно, можно сформулировать для себя отчетливо, лишь выяснив, как автор описывает суть импрессионизма. Л.В. Усенко считает, что «импрессионистская живопись влияла на литературу», «ряд особенностей... оказался общим и для литературы»[347]. Далее дается описание сущности литературного импрессионизма: «Мы находим в импрессионистической прозе господство лирической стихии и субъективного начала; намеки на состояние и настроение героя, оттенки и нюансы его психологии; эмоционально окрашенные, возвышенные ощущения природы, любви, искусства. В жанровом отношении – преобладание этюдной новеллы, «малой формы»: эскиза, наброска, лирического стихотворения в прозе. При этом часто законченные произведения имеют характер эскиза, а новелла не имеет фабулы.
Импрессионистическая проза становится музыкальной, порою – ритмизованной, грань между ней и поэзией во многом стирается. Импрессионистический стиль широко включает красочные эпитеты... язык прозы часто отрывочен, подчеркнуто лаконичен»[348].
Вчитываясь в данную характеристику, обращаешь внимание на целый ряд моментов. Прежде всего, «господство лирической стихии и субъективного начала» – не «новаторская» черта какой-либо школы живописи, которую «восприняла» проза. Нет, изначально это чисто литературное явление, и это особенность лирической поэзии. (Как раз в импрессионистическую живопись она могла проникнуть вторичным порядком, но это уже особая тема.) Далее, передача «настроения и состояния героя», «оттенков и нюансов его психологии» также побуждает вспомнить о поэтической лирике, а не о живописи. Сюда же относятся упоминаемые дальше Л.В. Усенко «эмоционально окрашенные» ощущения природы, любви, искусства. Внутри самой литературы, а не в каком-либо другом искусстве издавна сложился прототип таких будущих черт русской прозы начала XX века, но сложился он первоначально не в прозе, а в поэзии. Иными словами, проблематика «литературного импрессионизма» (в той его трактовке, которая дана в рассматриваемой книге) побуждает снова вспомнить о поэтическом в прозе и вообще о внутрилитературном художественном синтезе.
Поразительным образом тема синтеза, которого, говоря словами Вяч. Иванова, деятели культуры серебряного века «возжаждали прежде всего», в книге Л.В. Усенко не затрагивается. Между тем даже если имело место влияние на русскую литературу импрессионистической живописи, то и это был синтез (синтез искусств), а отсюда справедливо отмечаемая В.А. Келдышем «текучесть».
Вместе с тем применительно к Е.Г. Гуро наблюдения Л.В. Усенко явно касаются проблематики синтеза искусств. Ее своеобразный талант «формируется прежде всего в живописи и в графике»[349]. Отсюда изначальная предрасположенность писательницы к «словесной живописи». К этому прибавляется, как показывает исследователь, влияние музыки А.К. Лядова, его «музыкальной живописи». Этой «одной из главных фигур национально-русской школы импрессионизма в музыке» довелось сыграть для Е. Гуро, как доказывает исследователь, также немаловажную роль авторитетного «наставника»[350]. Так, в ее «Небесных верблюжатах» Л.В. Усенко обнаруживает даже чисто текстуальные переклички с лядовскими обработками народных песен. Все это чрезвычайно интересно и тонко проанализировано.
Однако широкой интерпретации влияния на русскую литературу серебряного века импрессионистической живописи и музыки принять все же, нам думается, нельзя. В основном соответствующие факты выглядят более просто – как результат «влияния» на прозу поэзии. Мы видели, как неожиданно последовательно выстраиваются именно в такой ряд черты «импрессионизма в прозе», названные Л.В. Усенко. Черту импрессионистической прозы усматривают иногда и в повествовании от лица герояСм.:
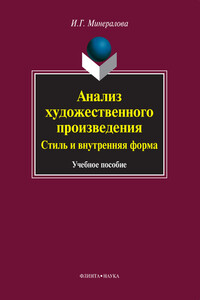
В книге обозначены доминантные направления в филологическом анализе художественных (поэтических и прозаических преимущественно) произведений разных жанров. Указаны аналитические пути, позволяющие читателю насколько возможно близко подойти к замыслу автора и постичь содержание и внутреннюю форму (А.А. Потебня) художественного целого и слова как произведения в этом целом.Для студентов и преподавателей.

Первая треть XIX века отмечена ростом дискуссий о месте женщин в литературе и границах их дозволенного участия в литературном процессе. Будет известным преувеличением считать этот период началом становления истории писательниц в России, но большинство суждений о допустимости занятий женщин словесностью, которые впоследствии взяли на вооружение критики 1830–1860‐х годов, впервые было сформулированы именно в то время. Цель, которую ставит перед собой Мария Нестеренко, — проанализировать, как происходила постепенная конвенционализация участия женщин в литературном процессе в России первой трети XIX века и как эта эволюция взглядов отразилась на писательской судьбе и репутации поэтессы Анны Петровны Буниной.

Для современной гуманитарной мысли понятие «Другой» столь же фундаментально, сколь и многозначно. Что такое Другой? В чем суть этого феномена? Как взаимодействие с Другим связано с вопросами самопознания и самоидентификации? В разное время и в разных областях культуры под Другим понимался не только другой человек, с которым мы вступаем во взаимодействие, но и иные расы, нации, религии, культуры, идеи, ценности – все то, что исключено из широко понимаемой общественной нормы и находится под подозрением у «большой культуры».

Биография Джоан Роулинг, написанная итальянской исследовательницей ее жизни и творчества Мариной Ленти. Роулинг никогда не соглашалась на выпуск официальной биографии, поэтому и на родине писательницы их опубликовано немного. Вся информация почерпнута автором из заявлений, которые делала в средствах массовой информации в течение последних двадцати трех лет сама Роулинг либо те, кто с ней связан, а также из новостных публикаций про писательницу с тех пор, как она стала мировой знаменитостью. В книге есть одна выразительная особенность.

Лидия Гинзбург (1902–1990) – автор, чье новаторство и место в литературном ландшафте ХХ века до сих пор не оценены по достоинству. Выдающийся филолог, автор фундаментальных работ по русской литературе, Л. Гинзбург получила мировую известность благодаря «Запискам блокадного человека». Однако своим главным достижением она считала прозаические тексты, написанные в стол и практически не публиковавшиеся при ее жизни. Задача, которую ставит перед собой Гинзбург-прозаик, – создать тип письма, адекватный катастрофическому XX веку и новому историческому субъекту, оказавшемуся в ситуации краха предыдущих индивидуалистических и гуманистических систем ценностей.

В книге собраны воспоминания об Антоне Павловиче Чехове и его окружении, принадлежащие родным писателя — брату, сестре, племянникам, а также мемуары о чеховской семье.

Поэзия в Китае на протяжении многих веков была радостью для простых людей, отрадой для интеллигентов, способом высказать самое сокровенное. Будь то народная песня или стихотворение признанного мастера — каждое слово осталось в истории китайской литературы.Автор рассказывает о поэзии Китая от древних песен до лирики начала XX века. Из книги вы узнаете о главных поэтических жанрах и стилях, известных сборниках, влиятельных и талантливых поэтах, группировках и течениях.Издание предназначено для широкого круга читателей.