Русская и Болгарская Православные Церкви в первой половине XX века. История взаимоотношений - [2]
После начала в 1820-е гг. борьбы болгарского духовенства за церковную независимость от Константинопольского Патриархата Россия, относясь с сочувствием к болгарскому народному движению, не поддержала эту борьбу, так как в основе российской политики на Ближнем Востоке тогда лежал принцип единства православия. Большинство русских иерархов в первой половине – середине XIX века не принимали идею автокефалии Болгарской Церкви. Лишь архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий (Борисов) защищал права болгар на восстановление патриаршества. Митрополит Московский святитель Филарет (Дроздов) считал необходимым, чтобы Константинопольская Патриархия предоставила болгарам возможность свободно молиться Богу на родном языке и «иметь единоплеменное духовенство», но отвергал идею о независимой Болгарской Церкви. В разгар болгарско-греческого противостояния по вопросу о церковной самостоятельности Российский Святейший Синод в послании Константинопольскому патриарху Григорию от 19 апреля 1869 г. выразил мнение, что до известной степени правы обе стороны – и Константинополь, хранящий церковное единство, и болгары, законно стремящиеся иметь национальную иерархию[2].
Современная история Болгарской Православной Церкви началась 27 февраля 1870 г. – в этот день фирманом турецкого султана Абдул-Азиза она была восстановлена в форме автономного экзархата, устав которого был принят в феврале 1871 г. на I Церковном Народном Соборе в Константинополе. Управление духовно-религиозными делами всецело предоставлялось Болгарскому экзарху, который был наделен и некоторыми светскими обязанностями, как представитель болгар перед султаном и иностранными державами, особенно в том, что касалось духовности и культуры. За исключением 16 перечисленных в 10-й статье фирмана болгарских епархий (Рущук, Силистра, Шумен, Тырнов, София, Вране, Ловча, Видин, Ниш, Пирот, Кюстендил, Самоков, Велес, Преслав, Варна, Пловдив), во всех «смешанных» епархиях с греко-болгарским населением вопрос о будущем устройстве Церкви подлежал урегулированию на основе местных референдумов, с учетом этнической принадлежности большинства населения. Согласно указанной статье фирмана, территории, две трети жителей которых выскажутся против подчинения Константинопольскому патриарху, после соответствующего расследования должны быть включены в состав Болгарского экзархата (используя эту статью, болгары уже к 1875 г. добились объединения в рамках экзархата почти всех этнически болгарских областей)[3].
Таким образом, оставался открытым вопрос о принадлежности к новой, стремящейся к автокефалии Церкви ряда епархий, на которые претендовал и Вселенский Патриархат. В результате возник острый конфликт, Константинопольский Патриархат объявил указ недействительным и подал османскому правительству жалобу, которая осталась без ответа. Затем Синод и Собор Константинопольского Патриархата 16 сентября 1872 г. принял акт о наложении схизмы на Болгарскую Православную Церковь, что привело к почти полной изоляции экзархата в межцерковных отношениях[4].
Впрочем, действия Вселенского Патриархата не встретили единодушной поддержки в православном мире. Постановление Константинопольского Собора не признал законным Иерусалимский патриарх Кирилл, большие разногласия это решение вызвало и в Антиохийской Церкви. В определенной степени поддерживали болгар Сербская, Румынская и Российская Православная Церковь, от которых Болгарская Церковь впоследствии получала святое миро[5].
Первым Болгарским экзархом 12 февраля 1872 г. был избран епископ Ловечский Иларион, но из-за политического давления со стороны турок и части болгар ему пришлось через несколько дней подать в отставку. 16 февраля 1872 г. новым экзархом стал митрополит Видинский Анфим I (Чалыков). После разгрома антитурецкого Апрельского восстания 1876 г. экзарх Анфим I пытался добиться от османского правительства смягчения репрессий в отношении болгар. В то же время он обратился к главам европейских держав с меморандумом, в котором говорилось о жестокостях турок над побежденными болгарами, и с просьбой к митрополиту Санкт-Петербургскому Исидору – ходатайствовать перед императором Александром II об освобождении болгар. Османское правительство добилось низложения отказавшегося опровергнуть свои заявления Анфима I; низложение произошло 12 апреля 1877 г. Через несколько месяцев – 17 июля, за пророссийскую позицию он был заключен в тюрьму в г. Ангоре (Анкаре) и вышел на свободу только в мае 1878 г. в результате событий русско-турецкой войны[6]. 24 апреля 1877 г. экзархом был избран митрополит Ловечский Иосиф I (Йовчев), возглавлявший Болгарскую Церковь почти 40 лет.
Сразу же после вынесения постановления Константинопольского Собора 1872 г. Болгарский экзарх Анфим I обратился с посланием к предстоятелям Поместных Православных Церквей, в котором не признавал законным и справедливым наложение схизмы, поскольку Болгарская Церковь сохраняла неизменную преданность православию. Святейший Синод Российской Церкви не ответил на это послание, но и не присоединился к акту Константинопольского Собора, оставив без ответа послание Вселенского патриарха Анфима VI о провозглашении схизмы. Против признания отлучения активно выступил архиепископ Литовский Макарий (Булгаков), считавший, что болгары отделились не от Вселенской Православной Церкви, а только от Константинопольского Патриархата, и канонические основания для признания Болгарского экзархата не отличаются от тех, по которым в XVIII веке произошло подчинение Константинополю Охридского и Печского Патриархатов, также узаконенное указом султана. Архиепископ Макарий высказался за сохранение братских отношений Российской Церкви с Константинопольским Патриархатом, что, однако, не обязывало, как он считал, признавать болгар схизматиками

О судьбах русской эмиграции и отношении различных ее частей и отдельных представителей к идеям и практике фашизма и нацизма, о проблемах коллаборационизма и особенностях восприятия фашизма русскими эмигрантами – через иллюзии и надежды к разочарованию. В работах историков Петербурга, Москвы, Владивостока, Эстонии, Болгарии, Франции и Австралии рассматривается история первых организаций русских фашистов в эмиграции, русских эмигрантов в Болгарии и Югославии в годы войны, их участия в Русском охранном корпусе в Югославии, рассказано о русских священниках этого Корпуса.

Книга известного церковного историка Михаила Витальевича Шкаровского посвящена истории Константинопольской Православной Церкви в XX веке, главным образом в 1910-е – 1950-е гг. Эти годы стали не только очень важным, но и наименее исследованным периодом в истории Константинопольского Патриархата, когда с одной стороны само его существование оказалось под угрозой, а с другой он начал распространять свою юрисдикцию на различные страны, где проживала православная диаспора, порой вступая в острые конфликты с другими Поместными Православными Церквами.
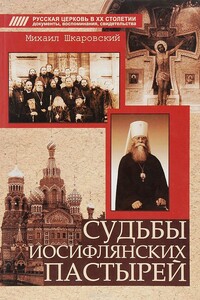
Значительную часть XX века Русская Православная Церковь подвергалась ожесточенным гонениям со стороны безбожных властей, породив целый сонм мужественно стоявших за веру Христову исповедников. Книга посвящена истории одной из самых значительных форм церковного сопротивления — иосифлянскому движению, получившему свое название по имени митрополита Петроградского Иосифа (Петровых). В ней описываются, прежде всего, судьбы руководителей и основных участников движения, многие из которых уже прославлены в лике святых как Новомученики и Исповедники Российские. Книга подготовлена на основе большого комплекса ранее не известных архивных документов и личных воспоминаний.

Лебина Н.Б., Шкаровский М.В. Проституция в Петербурге. М.: Прогресс-академия, 1994Эта книга о проституции. О своеобразных взаимоотношениях: масть - падшая женщина. О просто свободной любви в царской России и о «свободной коммунистической любви» в России социалистической. Наконец, эта книга о городской культуре, о некоторых, далеко не самых лицеприятных ее сторонах. Историк Наталья Лебина и архивист Михаил Шкаровский, отказавшись от пуританского взгляда на проблему соотношений элементов культуры и антикультуры в жизни города, попытались нарисовать социальный портрет продажной женщины в «золотой век» российской проституции на фоне сопутствующих проституции явлений - венерических заболеваний, алкоголизма, преступности.
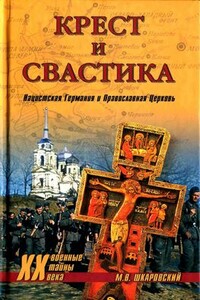
Книга доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Центрального государственного архива Санкт-Петербурга М.В. Шкаровского посвящена сложной и малоизученной теме: Русская Православная Церковь на оккупированных территориях во время Второй мировой войны. Как свидетельствуют многочисленные архивные документы, ни одна из частей или юрисдикций Русской Церкви не стала сотрудничать с нацистами. Нацистским ведомствам даже не удалось полностью подчинить и сделать своим послушным орудием православную епархию на территории Германии.
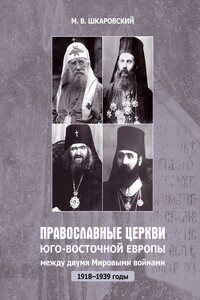
Предлагаемое читателю издание посвящено богатой и насыщенной важными событиями истории Православных Церквей Юго-Востока Европы в период между двумя Мировыми войнами. Эти годы стали переломными в истории целого ряда Поместных Православных Церквей Балканского полуострова. Константинопольский Патриархат утратил все свои епархии в Малой Азии, но сумел сохраниться и даже увеличить свое влияние в православном мире; Сербская и Румынская Церкви приобрели статус Патриархата и существенно расширили свои территории; возникла новая автокефальная Православная Церковь – Албанская.

В настоящем выпуске «Трудов ГМИР» публикуются материалы конференции «Феномен паломничества в религиях: Священная цель, священный путь, священные реликвии» (2008), а также статьи, посвященные изучению отдельных собраний ГМИР, истории религии и секулярных идей в России, Западной Европе и Индии. Издание рассчитано на историков, философов, археологов, искусствоведов и музейных работников.
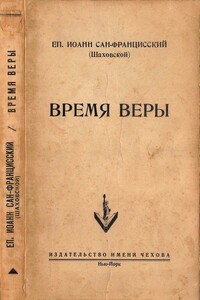
Отец Иоанн (Шаховской), архиепископ Сан-Францисский, пожалуй, самая известная для обычного человека, личность русского православного зарубежья. С 1948 года и до своей смерти в 1989 году он ежедневно беседовал на «Радио Свобода» с русским человеком. Передача так и называлась — «Беседы с русским народом». Он говорил о вере, от которой отошел строитель коммунизма. Беседовал об истории Великой России, которую в стране советов пытались переписать по-новому, о трагедии, которую народ не желал, да и не мог осознать.
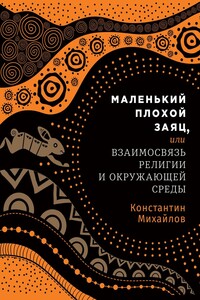
Влияет ли экология на религиозные взгляды? Зависят ли наши убеждения от того, какие ландшафты нас окружают и каких животных мы видим? Скажем, если бы Иисус никогда не видел агнцев, а имел дело только со страусами – мы знали бы совершенно иное христианство? И наоборот: зависит ли экология от религии? Как монотеистические религии влияют на глобальное потепление, а зороастризм – на птиц?Через мифы и истории Константин Михайлов рассказывает о том, почему мы верим в то, во что верим, как окружающая среда на нас влияет, а мы – на нее.
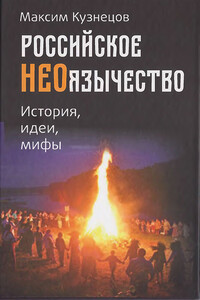
Данная книга повествует об истории появления неоязыческого движения в России. В ней рассматриваются идеи и способы неоязыческой пропаганды, а также приведен разбор наиболее тиражируемых мифов неоязычества. Книга может быть использована в качестве пособия священниками, миссионерами, апологетами, приходскими консультантами для ведения конструктивной полемики с адептами неоязычества, а также может быть интересна широкому кругу православных христиан и всем интересующимся новыми религиозными движениями.

Написанная живым, доступным языком, книга известного арабиста, исламоведа содержит изложение коранических легенд и преданий, анализ их истоков, их бытования в доисламской Аравии и в странах арабо-мусульманской культуры. В оформлении использованы средневековые арабские рукописи.
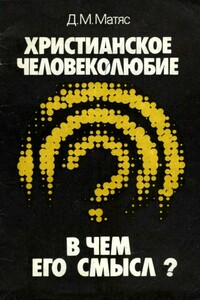
«Возлюби ближнего твоего», «Все у вас да будет с любовью», «Любите врагов ваших» — эти и другие поучения регулярно раздаются с амвонов всех христианских церквей, с проповеднических кафедр сектантских общин. Они преподносятся верующим как выражение особого гуманизма христианства. Раскрывая псевдогуманизм этих заповедей, автор книги на большом фактическом материале показывает превосходство марксистско-ленинского гуманизма, реально воплощающегося в социалистическом обществе.Для массового читателя — верующих и неверующих.