Росстани - [5]
Протягивал палку к оврагу и говорил работнику, нанятому в Москве и ничего не знающему про эти места:
– А это… Медвежий враг. Понимаешь?
– Так точно-с, Данила Степаныч… Медвежий-с…
– А почему – Медвежий? Вот и не знаешь.
– Не могу знать-с. Надо полагать, медведи жили?…
– Вот и не знаешь. Тут… давно это было… я мальчишкой еще был… даже и до меня… понимаешь, медведь… зашел раз и увяз… понимаешь? Глина там, ключи… Живьем его тут и взяли… Понимаешь?
– Понимаю-с, с этого самого, значит… от медведя! Говорил вдумчиво, точно все это было и для него важно, и хмуро, как и Данила Степаныч, всматривался в глухую чащу высокого оврага в горе, где мелькало синее пятнышко рубашки: должно быть, там собирали ландыши.
– Вот и прозвали: Медвежий!
Говорил Данила Степаныч, чего не видал сам, чего, может быть, не видали и те, кто сказал ему. Может быть, сказку. Носил ее в себе всю жизнь и удержал в памяти среди вороха всяких дел и кипений. И вот теперь вспомнил и рассказал.
– Теперь медведи за редкость… – сказал Степан. – В зоологическом вот показывают… ситнички продают для прокормления…
И подбирал, о чем бы еще поговорить, чтобы было не скучно Даниле Степанычу. Морщил заросший лоб, двигал белыми бровями, поглядывал к небу – и не находил, что бы такое сказать еще. Родился и вырос в Москве и не знал ничего из здешнего. А на Данилу Степаныча напирало совсюду, куда ни глядел, переполняло всего, и нельзя было удержать при себе.
– Кали-ны тут!… – сказал он и махнул палкой.
– Место очень превосходное, – сказал Степан и посмотрел к палке. – Высота очень…
Шли деревней, и Данила Степаныч припоминал, чей же двор, вглядывался в старые ветлы, в завалившиеся сараюшки, с заплатами из обрубков, в затянувшиеся мохом крыши. Признал у колодца водопойную колоду, зазеленевшую от плесени, огрызанную. Постучал по ней палкой.
– Вон какая… – сказал не то Степану, не то себе самому.
– Не наблюдают-с… Наш Вороной и пить не соглашается…
Узнал большой белый камень, на который становились, доставая воду, на который и он становился, – протертый ногами до желобка. Камень долго живет. Остановился и покрестился на похилившийся кирпичный столбик, накрытый ржавой железкой, сколько уже раз заплатанной, в полутемном заломе которого стояла безликая иконка. Столбик стал совсем маленький, а когда-то был и шире, и выше и надо было дотягиваться, чтобы заглянуть: забивались сюда воробьи.
Выходили под окна бабы, незнакомые, молодые, кланялись и провожали пытливым взглядом. Выбежала худощекая, востроносая бабенка, в красном повойнике, с матежами по всему лицу, с животом, поддернувшим синюю юбку, закланялась низко-низко, зачастила:
– Здравствуйте, батюшка Данила Степаныч! Здоровьице-то ваше как… Отдохнуть коли желательно, я вам и стулик со спинкой вынесла бы… под рябинкой-то у меня хорошо, тихо…
А он поднял палку вровень с грудью и спрашивал хмуро:
– А ты… чья же?
– А Митрия-то Козлова… Козла!
– Козла-а?… Что ж это я не помню что-то… Козла!…
– А как же-с… батюшка Данил Степаныч… а мой Митрий-то гесятником у вашей милости, у Миколай Данилыча… Раньше-то в штукатурах все работал, допреждето, а теперь уж гесятник…
– Черный, что ль?
– Самый, самый он! С бородкой, рыжий, складный такой мужик. За вашей милостью и живем… дай вам от Господа здоровьица, родителям вашим царство небесное, деткам вашим на здоровье, на радость… Не оставили нас, сирот, попечением, добрым словом… просветили нашу убогость…
– А-а, ты какая… лопотуха… Ну-ну… Добеги-ка до Ариши, кваску сюда чтобы дала бутылочного…
– И жарко-то уж вам как, Данила Степаныч!… А я сейчас… Манюшка, стул давай с решеточкой, под часамито… В окно давай, несуразная!…
Пахло крапивой и коровьим навозом в холодке. Толклись мошки под развесистой рябиной. Данила Степаныч, красный, в белом сиянии веерной бороды, тяжело дышал и обмахивался белым картузом. Степан дожидался со стульчиком, сидя в сторонке, в тени крапивы. А с соседних дворов высматривали бабы, перебегали девчонки, – оповещали, что сидит Данила Степаныч у Дударихи на стуле под рябиной, а Дудариха побежала к Арине Степановне за квасом. А поодаль, из-за крапивы, выглядывали ребятишки и шептались.
V
Узнал Данила Степаныч колченогого пастуха ХандруМандру, старого ворчуна, – очень обрадовался.
Уже забыли, сколько годов ходил пастух за Ключевским стадом, всегда один, без подпаска, – десятка полтора всего было коров в деревне, – и на зиму не уходил, прижился. Был он чуть помоложе Данилы Степаныча, и как был всегда своенравный и зубастый, таким и остался. За то и прозвали его – Хандра-Мандра.
Подковылял сам, когда старик сидел у садика на скамеечке, стащил бурую шапку и тут же надел.
– С приездом, што ль, хозяин! Корову-то пустишь?
– А, ты, Хандра-Мандра! Жив еще?!
– Ты жив, а мне што ж не жить! Вместе, чай, помирать будем…
– О?! Ну, живи, живи…
– Поживу, коль так. Чего мне не жить! Скольких я стариков-то перехоронил! Мяса во мне нет, жилка да спленка… еще пятерых, гляди, с меня хватит!
– Ишь ты… – протянул Данила Степаныч, разглядывая маленькое, с кулачок, сплошь красно-бурое пятнышко лица пастуха, с жилками, как у королька.
– То-то и есть. Я вон, постой, Семена Морозку еще схороню да вот Мамайку, разбойника… на табачишко вон семитку накинул, шутьи его возьми! А то и еще кого… И тебя, может, еще схороню, что думаешь?! Я на жилке держусь, не скусишь!
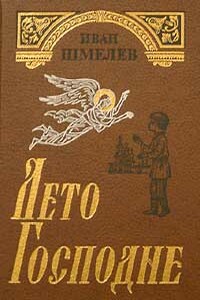
«Лето Господне» по праву можно назвать одной из вершин позднего творчества Ивана Сергеевича Шмелева (1873-1950). Страница за страницей читателю открывается удивительный мир простого русского человека, вся жизнь которого проникнута духом Христовым, освящена Святой Церковью, согрета теплой, по-детски простой и глубокой верой.«Лето Господне» (1927–1948) является самым известным произведением автора. Был издан в полном варианте в Париже в 1948 г. (YMCA-PRESS). Состоит из трёх частей: «Праздники», «Радости», «Скорби».
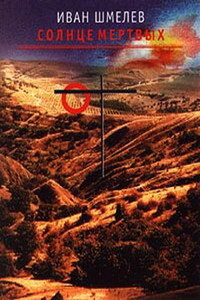
Эпопея «Солнце мертвых» — безусловно, одна из самых трагических книг за всю историю человечества. История одичания людей в братоубийственной Гражданской войне написана не просто свидетелем событий, а выдающимся русским писателем, может быть, одним из самых крупных писателей ХХ века. Масштабы творческого наследия Ивана Сергеевича Шмелева мы еще не осознали в полной мере.Впервые собранные воедино и приложенные к настоящему изданию «Солнца мертвых», письма автора к наркому Луначарскому и к писателю Вересаеву дают книге как бы новое дыхание, увеличивают и без того громадный и эмоциональный заряд произведения.Учитывая условия выживания людей в наших сегодняшних «горячих точках», эпопея «Солнце мертвых», к сожалению, опять актуальна.Как сказал по поводу этой книги Томас Манн:«Читайте, если у вас хватит смелости:».
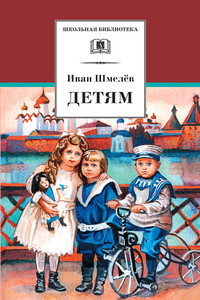
В сборник вошли рассказы, написанные для детей и о детях. Все они проникнуты высокими христианскими мотивами любви и сострадания к ближним.Для среднего школьного возраста.
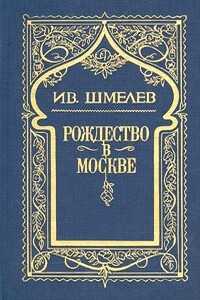
Роман «Няня из Москвы», написанный в излюбленной Шмелевым форме сказа (в которой писатель достиг непревзойденного мастерства), – это повествование бесхитростной русской женщины, попавшей в бурный водоворот событий истории XX в. и оказавшейся на чужбине. В страданиях, теряя подчас здоровье и богатство, герои романа обретают душу, приходят к Истине.Иллюстрации Т.В. Прибыловской.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
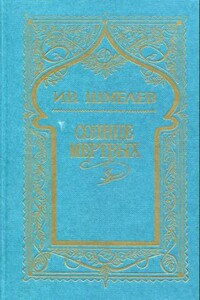
Первый том настоящего собрания сочинений И. С. Шмелева (1871–1950) посвящен в основном дореволюционному творчеству писателя. В него вошли повести «Человек из ресторана», «Росстани», «Неупиваемая Чаша», рассказы, а также первая вещь, написанная Шмелевым в эмиграции, – эпопея «Солнце мертвых».http://ruslit.traumlibrary.net.
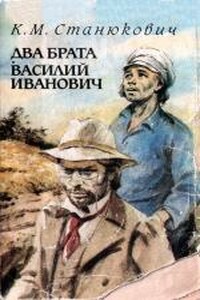
Рассказы о море и моряках замечательного русского писателя конца XIX века Константина Михайловича Станюковича любимы читателями. Его перу принадлежит и множество «неморских» произведений, отличающихся высоким гражданским чувством.В романе «Два брата» писатель по своему ставит проблему «отцов и детей», с болью и гневом осуждая карьеризм, стяжательство, холодный жизненный цинизм тех представителей молодого поколения, для которых жажда личного преуспевания заслонила прогрессивные цели, который служили их отцы.
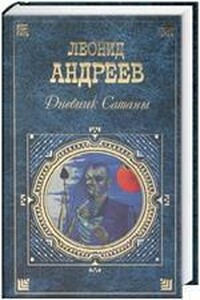
Книга одного из самых необычных русских писателей XX века! Будоражащие, шокирующие романы «Дневник Сатаны», «Иго войны», «Сашка Жегулев» Л Андреева точно и жестко, через мистические образы проникают в самые сокровенные потемки человеческой психики.Леонид Андреев (1871–1919) – писатель удивительно тонкой и острой интуиции, оставивший неповторимый след в русской литературе. Изображение конкретных картин реально-бытовой жизни он смело совмещает с символическим звучанием; экспрессивно, порой через фантастические образы, но удивительно точно и глубоко Андреев проникает в тайное тайных человеческой психики.В книгу вошли известные романы Л.Н.
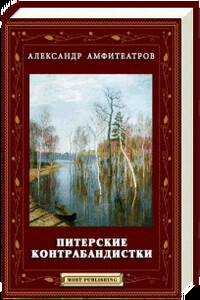
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).
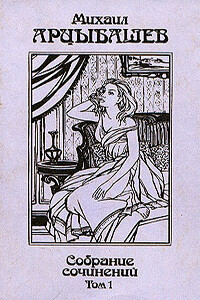
После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.