Росстани - [6]
Хитро смотрел на грузного, расползшегося к бедрам Лаврухина, помигивая белком попорченного глаза, и с трех шагов слышал Данила Степаныч знакомый дух стада и махорки. И как будто все та же была на Хандре долгополая кофта, обдиравшаяся слоями, в лоскутьях которой держал он кисет и газетку, – залитая смолой, давняя. Дубленое было лицо его с ветров и погоды, со скуламишишечками, без щек. Втянулись они под скулы, поросли серой щетинкой, и только в бровях еще чернело кусточками: посмыло кой-где дождями.
– Поднесешь чего – уберегу коровку, пожальствуешь – та-ак бока настегаю!… Со мной не шути… хе-э… С тебя должно супротив кого другого итить…
– Ну-ну… А ты, Хандра-Мандра… глазок оловянный!… Как раз и вспомнил: оловянным глазком, бывало, звали Хандру, да забыли. Даже пастух подивился и прояснел.
– Упомнил! Эх и стары же мы с тобой стали, Степаныч!… Оба в дураки выписались…
– Что ж это ты так… – нахмурился Данила Степаныч. – Ты, брат…
– А то как! Я вон весь век за коровами, ты за рублем ходил… При том и стались: у тебя рубли, у меня коровы… Ей-Богу! – хитро помигивал белком Хандра. – Может, ты и умней всех… дом-то какой! а я будто с придурью… Ну, давай рядиться. Кажну зорю стану тебе играть веселую.
Порядился на бутылке и рубле – за особый пригляд. Ходил взглянуть на корову. Обошел с боков, помял вымя, подавил кривым большим пальцем на крестец, отвернул хвост, посмотрел на зеркало, сказал:
– Огулёна по третьему месяцу.
Потянул за рог, перебирал пальцами, смотря в угол; прочел, как по книге:
– Ничего жуколочка… по четвертому телку. Вымистая, ничего… Красных восемь дал?
– Ну, ладно, ладно… там сколько ни дал… – осердился на что-то Данила Степаныч: немели ноги или обиделся, что так оценил.
Ушел в дом, а Хандра-Мандра остался под окнами, дожидался. Вынесла ему Арина стаканчик водки и яичко.
– Попригляди уж за коровенкой-то… московская ведь…
– Да уж… гхе!…
Покрестился и потянул из стаканчика, не спеша, запрокидывая голову. Сказал сипло:
– Шибко доиться будет, тетка Арина… без зацепу проскочило. И где вы такое винцо берете!…
Обсосал ус и заковылял, закручивая на ходу через спину свой долгий кнут.
А на зорьке разбудила Данилу Степаныча жалейка под окнами. Сперва и не разобрал, что такое. С минуту лежал затаившись, слыша, как застучало сердце, и когда понял, что это Хандра-Мандра играет, заложил руки за голову, уставился в сосновый потолок и слушал. Ах, жалейка!
Ах, жалейка!
Шло давнее, в ноющих переливах, далекое, совсем похороненное. И уже видел Данила Степаныч, как верха Медвежьего врага золотятся, лужок в росе, на речке туман, окна горят к восходу…
Закрыл глаза, совсем затаился, не слыша затекших ног, а Хандра-Мандра все играл, все глубже вытягивал, тащил из страшной дали живые вороха…
Ревели коровы утренним бодрым ревом. И в этих ревах и живых вскрикиваниях жалейки пробиралась тоскливая дума, что это последние голоса и жизнь уходит. Самое-то хорошее и прошло.
Скрипнули творила сарая. Сиплый, утренний, голос Арины понукал ласково:
– Ну, ну, дурашка… Христос с тобой, матушка… иди, иди…
Слышалась в тихом утре тяжелая ступь, и потянуло сытое тягучее мычанье. Крепко, как из пистолета, ударил кнут, побежало, рассыпалось по горам и отдалось в овраге. Всегда отдавалось. Мальчишками стояли, бывало, у крайней избы, где жил старик Золотой, – когда было! – и кричали к оврагу. И отвечал овраг. И теперь отвечает. И петухи в овраге поют, и жалейка играет, и перекликаются бабьи голоса.
И когда услыхал Данила Степаныч, как рассыпалось щелканьем, сказало в нем затаенное, что хорошо это, что он опять здесь и теперь уже больше не уедет. Что это все было неизменно полвека, когда его не было здесь, и каждое утро играла жалейка, и без него продолжалась его детская жизнь. И было ему грустно, и думалось, что уже выводятся настоящие пастухи, помрет Хандра-Мандра и здесь уже не будут играть так. Последние это пастухи.
И припомнилось ему еще, как лет тридцать назад приезжал он сюда с жидом-компаньоном, которого звали Яша, – через него купил он на слом княжеские дома на Поварской и выстроил на складчину первый доходный дом и выгодно продал. И привез он тогда этого Яшу, – вот был человек! – к себе на родину, показывал на радостях свое место, – вот откуда вышел! – а Яша хвалил все и говорил: «Вот место хорошее! вот где дач можно наставить!» Пили тогда они в большой компании, заставили ловить по омутам рыбу и раков, – сила раков была! Пили-пили, девок согнали, уху варили… Было дело… А на зорьке заиграл Хандра. Призвали его тогда на свое гулянье, к ветлам, за деревню, и напоили. Коньяком поили. Вот тогда он играл! Жид плакал и все хотел дачу себе на горе ставить и жить совсем. А Хандру в омуте купали, приводили к жизни…
Давно было… А там еще и теперь стоят ветлы, и можно собрать мужиков праздником, ловить рыбу, накупить коньяку и рому, можно позвать Хандру, и будет он играть… А жид тот помер уже…
VI
Подсолнухи на грядке вытягивались, выравнивались, ширились. На огороде, за погребами-соседями, черные гряды сплошь затянуло сочными огуречными плетями, и стоял там, когда ни взгляни, как будто старый ХандраМандра, рваный и кривобокий, распялив руки. Поставили его с весны – для гороха, и будет стоять так до осени – в огурцах.
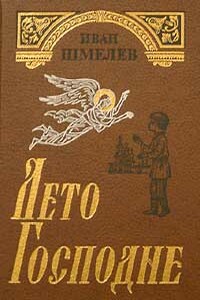
«Лето Господне» по праву можно назвать одной из вершин позднего творчества Ивана Сергеевича Шмелева (1873-1950). Страница за страницей читателю открывается удивительный мир простого русского человека, вся жизнь которого проникнута духом Христовым, освящена Святой Церковью, согрета теплой, по-детски простой и глубокой верой.«Лето Господне» (1927–1948) является самым известным произведением автора. Был издан в полном варианте в Париже в 1948 г. (YMCA-PRESS). Состоит из трёх частей: «Праздники», «Радости», «Скорби».
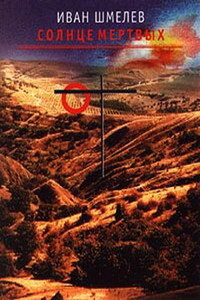
Эпопея «Солнце мертвых» — безусловно, одна из самых трагических книг за всю историю человечества. История одичания людей в братоубийственной Гражданской войне написана не просто свидетелем событий, а выдающимся русским писателем, может быть, одним из самых крупных писателей ХХ века. Масштабы творческого наследия Ивана Сергеевича Шмелева мы еще не осознали в полной мере.Впервые собранные воедино и приложенные к настоящему изданию «Солнца мертвых», письма автора к наркому Луначарскому и к писателю Вересаеву дают книге как бы новое дыхание, увеличивают и без того громадный и эмоциональный заряд произведения.Учитывая условия выживания людей в наших сегодняшних «горячих точках», эпопея «Солнце мертвых», к сожалению, опять актуальна.Как сказал по поводу этой книги Томас Манн:«Читайте, если у вас хватит смелости:».
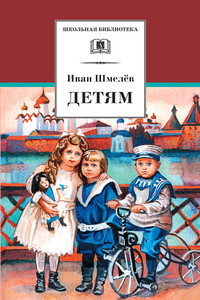
В сборник вошли рассказы, написанные для детей и о детях. Все они проникнуты высокими христианскими мотивами любви и сострадания к ближним.Для среднего школьного возраста.
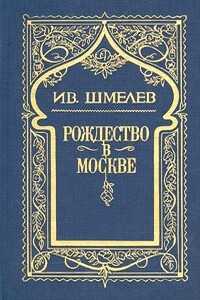
Роман «Няня из Москвы», написанный в излюбленной Шмелевым форме сказа (в которой писатель достиг непревзойденного мастерства), – это повествование бесхитростной русской женщины, попавшей в бурный водоворот событий истории XX в. и оказавшейся на чужбине. В страданиях, теряя подчас здоровье и богатство, герои романа обретают душу, приходят к Истине.Иллюстрации Т.В. Прибыловской.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
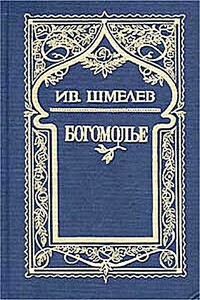
«Богомолье», наряду с романом «Лето Господне» — вершина творчества Шмелева.«Великий мастер слова и образа, Шмелев создал здесь в величайшей простоте утонченную и незабываемую ткань русского быта… Россия и православный строй ее души показаны здесь силою ясновидящей любви» (И. А. Ильин).Собрание сочинений в 5 томах. Том 4. Богомолье. Издательство «Русская книга». Москва. 2001.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.
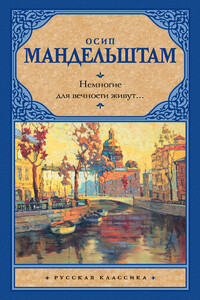
Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.
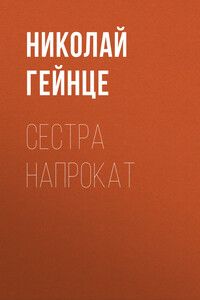
«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».

«Мы подходили к Новороссийску. Громоздились невысокие, лесистые горы; море было спокойное, а из воды, неподалеку от мола, торчали мачты потопленного командами Черноморского флота. Влево, под горою, белели дачи Геленджика…».
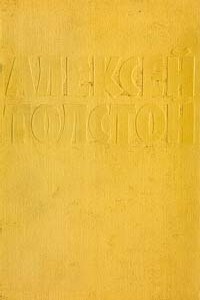
Из книги: Алексей Толстой «Собрание сочинений в 10 томах. Том 4» (Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1958 г.)Комментарии Ю. Крестинского.

Немирович-Данченко Василий Иванович — известный писатель, сын малоросса и армянки. Родился в 1848 г.; детство провел в походной обстановке в Дагестане и Грузии; учился в Александровском кадетском корпусе в Москве. В конце 1860-х и начале 1870-х годов жил на побережье Белого моря и Ледовитого океана, которое описал в ряде талантливых очерков, появившихся в «Отечественных Записках» и «Вестнике Европы» и вышедших затем отдельными изданиями («За Северным полярным кругом», «Беломоры и Соловки», «У океана», «Лапландия и лапландцы», «На просторе»)