Роман тайн «Доктор Живаго» - [17]
Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба, и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан[89].
В конце романа Евграф снабжает Юрия Живаго деньгами: как и Пугачев — Гринева[90].
Евграф олицетворяет собой другую, чем та, которая изображена в романе, революцию (пугачевскую), другое большевистской революции. Он анахронистичен.
В эпилоге «Доктора Живаго» Таня, дочь Юрия и Лары, сообщает свою историю Евграфу. В функции Евграфа входит включение пастернаковского романа в жанровую традицию, в круг рассказов о тайне рождения (авторефлексии). Тайный роман Пастернака завершается объявлением о своей принадлежности жанру. Собственно, жанровость романа и является тем, что скрыто в Евграфе.
6. Литература факта
Четыре разобранных нами примера еще не дают достаточного основания для того, чтобы сделать решительные выводы о том втором романе, который спрятан под описанием жизни и смерти Юрия Живаго. Но наши примеры однородны и допускают поэтому обобщение, которое мы и предпримем, не претендуя на то, чтобы вынести сколько-нибудь окончательное суждение о тайнописи, встроенной Пастернаком в его роман.
Во всех тех случаях, с которыми мы имели дело, Пастернак устанавливает — тем или иным способом — эквивалентность между своими сугубо литературными героями и реальными историческими фигурами, будь то Маяковский, Юсупов, Штирнер, Пугачев и т. д. Имплицитный роман, в отличие от эксплицитного, фактичен (пусть даже Пастернак и адресуется к факту, работая с литературными текстами, посредующими между его романом и историей, вроде «Капитанской дочки»), Dichtung для Пастернака имеет право на существование лишь в своем тождестве с Wahrheit. Суть литературы, вымысла, по Пастернаку, — в переводимости литературы в истину. Тайна художественного текста заключена в том, что он, о чем бы ни вешал, говорит о действительном.
Вообще: все романы о писателях прототипичны, прикреплены к конкретным лицам и обстоятельствам (ср. хотя бы «Козлиную песнь» и «Труды и дни Свистонова» Вагинова, или «Мастера и Маргариту» Булгакова, или «Пушкинский Дом» Битова). Их трудно читать, не зная подразумеваемых ими реалий. Писатель перестает только вымысливать, когда он делает предметом литературы себя и свое ближайшее окружение. Литература о литераторах не вполне литературна. «Доктор Живаго», роман о поэте, входит в этот ряд текстов с прототипической основой. Но, как представляется, пастернаковский роман с его приверженностью действительной истории выполнял, кроме обычного в случае рассказов о творческой личности, еще и особое задание: «Доктор Живаго» был создан как результат полемики (начавшейся в «Охранной грамоте»[91]) с лефовской теорией литературы факта. Опираясь лишь на фактическое положение дел, в романе аргументирует Комаровский — Маяковский, когда он похищает Лару из Варыкина. Роман же Пастернака доподлинен даже и как выдумка.
«Доктор Живаго» распадается на явный и тайный тексты таким образом, что последний оказывается n-кратным романом, полинарративом, захватывающим самые разные фактические области, можно сказать, сетью романов. В подтекст «Доктора Живаго» заложено сразу несколько романов, которые ведут нас от Цезаря к Николаю II, от Фалеса к Штирнеру, от пугачевского бунта к Октябрьской революции. Как соположены между собой и насколько внутренне связны (когерентны) эти незримые романы? Ответ на этот вопрос — дело будущих исследований. В том, что касается истории философии, пастернаковский роман кажется нам ее последовательным изображением в лицах (философской прозопопеей).
Соперничество двух мужчин, Антипова-Стрельникова и Юрия Живаго, влюбленных в Лару (скорее всего, в падшую Софию гностиков и Вл. Соловьева), является конкуренцией между веками Просвещения и романтизма. Антипов-Стрельников во многом — Кант. Он подчиняет себя нравственному императиву по Канту, по знаменитой концовке «Критики практического разума» («Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmenden Bewunderung und Ehrfrucht […]: der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetzt in mir»[92]). Звездное небо упомянуто трижды там, где пастернаковский роман рассказывает о решении Антипова освободить Лару от себя, принятом по (неверно понятому) нравственному долгу:
Звездное небо, как пламя горящего спирта, озаряло голубым движущимся отсветом черную землю с комками замерзшей грязи […]
Антипов сел на перевернутую лодку и посмотрел на звезды […]
Он посмотрел на звезды, словно спрашивая у них совета.
(3, 109)
Пленение Антипова немцами приобретает в связи с кантианством этого героя еще одно значение[93].
Кант отвергается Пастернаком, как и Андреем Белым и другими русскими философами[94]. Отказ Пастернака от кантианства был прокламирован им в «Охранной грамоте». Разрыв с кантианцем Когеном, описанный в этом сочинении, следует читать как перевернутую историю встречи Фихте с Кантом. В июле 1791 г. безвестный Фихте прибыл из Варшавы в Кенигсберг, чтобы познакомиться с Кантом (ср. приуроченность к тому же месяцу контактов Пастернака с Когеном). После весьма холодного приема у Канта Фихте написал в Кенигсберге свое первое сочинение, выдержанное в духе кантовской философии, «Versuch einer Kritik aller Offenbarung». Кант пришел в восторг от текста Фихте и помог опубликовать его (точно так же вначале неудачен, а затем триумфален ответ Пастернака Когену, когда студент подсаживается к профессору, чтобы «разбирать свой урок из Канта» (4, 190)). «Versuch…» вышел (по не совсем понятным причинам) без имени автора и был принят за работу самого Канта, что обеспечило Фихте после того, как истина выяснилась, философскую славу. Пастернак изображает свои философские писания в Марбурге как обещающие научную карьеру, но уводящие автора в анонимность:
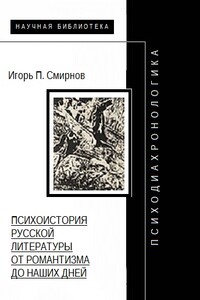
Читатель обнаружит в этой книге смесь разных дисциплин, состоящую из психоанализа, логики, истории литературы и культуры. Менее всего это смешение мыслилось нами как дополнение одного объяснения материала другим, ведущееся по принципу: там, где кончается психология, начинается логика, и там, где кончается логика, начинается историческое исследование. Метод, положенный в основу нашей работы, антиплюралистичен. Мы руководствовались убеждением, что психоанализ, логика и история — это одно и то же… Инструментальной задачей нашей книги была выработка такого метаязыка, в котором термины психоанализа, логики и диахронической культурологии были бы взаимопереводимы.

Что такое смысл? Распоряжается ли он нами или мы управляем им? Какова та логика, которая отличает его от значений? Как он воплощает себя в социокультурной практике? Чем вызывается его историческая изменчивость? Конечен он либо неисчерпаем? Что делает его то верой, то знанием? Может ли он стать Злом? Почему он способен перерождаться в нонсенс? Вот те вопросы, на которые пытается ответить новая книга известного филолога, философа, культуролога И.П. Смирнова, автора книг «Бытие и творчество», «Психодиахронологика», «Роман тайн “Доктор Живаго”», «Социософия революции» и многих других.

Подборка около 60 статей написанных с 1997 по 2015 ггИгорь Павлович Смирнов (р. 1941) — филолог, писатель, автор многочисленных работ по истории и теории литературы, культурной антропологии, политической философии. Закончил филологический факультет ЛГУ, с 1966 по 1979 год — научный сотрудник Института русской литературы АН СССР, в 1981 году переехал в ФРГ, с 1982 года — профессор Констанцского университета (Германия). Живет в Констанце (Германия) и Санкт-Петербурге.

В книге профессора И. П. Смирнова собраны в основном новые работы, посвященные художественной культуре XX века. В круг его исследовательских интересов в этом издании вошли теория и метатеория литературы; развитие авангарда вплоть до 1940–1950-х гг.; смысловой строй больших интертекстуальных романов – «Дара» В. Набокова и «Доктора Живаго» Б. Пастернака; превращения, которые претерпевает в лирике И. Бродского топика поэтического безумия; философия кино и самопонимание фильма относительно киногенной действительности.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ранний период петербургской жизни Некрасова — с момента его приезда в июле 1838 года — принадлежит к числу наименее документированных в его биографии. Мы знаем об этом периоде его жизни главным образом по поздним мемуарам, всегда не вполне точным и противоречивым, всегда смещающим хронологию и рисующим своего героя извне — как эпизодическое лицо в случайных встречах. Автобиографические произведения в этом отношении, вероятно, еще менее надежны: мы никогда не знаем, где в них кончается воспоминание и начинается художественный вымысел.По всем этим обстоятельствам биографические свидетельства о раннем Некрасове, идущие из его непосредственного окружения, представляют собою явление не совсем обычное и весьма любопытное для биографа.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предисловие известного историка драмы Юрия Фридштейна к «Коллекции» — сборнику лучших пьес английского драматурга Гарольда Пинтера, лауреата Нобелевской премии 2005 года.

Анализируются сведения о месте и времени работы братьев Стругацких над своими произведениями, делается попытка выявить определяющий географический фактор в творческом тандеме.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга удивительна тем, что принадлежит к числу самых последних более или менее полных исследований литературного творчества Толкиена — большого писателя и художника. Созданный им мир - своего рода Зазеркалье, вернее, оборотная сторона Зеркала, в котором отражается наш, настоящий, мир во всех его многогранных проявлениях. Главный же, непреложный закон мира Толкиена, как и нашего, или, если угодно, сила, им движущая, — извечное противостояние Добра и Зла. И то и другое, нетрудно догадаться, воплощают в себе исконные обитатели этого мира, герои фантастические и вместе с тем совершенно реальные: с одной стороны, доблестные воители — хоббиты, эльфы, гномы, люди и белые маги, а с другой, великие злодеи — колдуны со своими приспешниками.Чудесный свой мир Толкиен создавал всю жизнь.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.