Робеспьер - [7]
Стипендия Робеспьера (450 ливров в год, средний доход ремесленника) предполагала получение высшего образования, так что, получив звание бакалавра, ученики могли выбрать себе один из трех университетских курсов: право, медицину или теологию. Максимилиан выбрал право, ибо решил стать адвокатом. Есть предположение, что такое решение подсказали родственники. А по словам сестры, он объяснял свой выбор желанием «защищать угнетенных от угнетателей, в суде выступать в защиту слабых против жаждущих их растоптать сильных». Воодушевленный идеями Руссо о народном суверенитете, окруженный тенями великих мужей древности, Максимилиан, по словам Э. Амеля, пребывал в возрасте, когда возвышенные идеалы воспринимаются быстрее и охотнее, а заботы о бренном отходят на второй план. И, возможно, Шарлотта была права, и брат ее действительно мечтал о некоем идеальном служении. Во всяком случае, курс юридических наук Робеспьер закончил с блеском и получил награду за успехи в обучении — 600 ливров, которые передал в пользу брата Огюстена, тоже отправленного в коллеж Людовика Великого. Заметим, что, как и старший брат, тот отлично его окончит, но сумма его наградных будет вполовину меньше.
Предполагают, что во время практики в парижской адвокатской конторе Нуло Робеспьер познакомился с будущим вождем жирондистов Бриссо де Варвилем, в ту пору служившим у Нуло клерком. Дружбы не получилось. Возможно, именно тогда Максимилиан понял, что в Париже без денег и протекции пробиться среди таких же, как он, честолюбивых молодых людей, не обладавших тугими кошельками, но исполненных верой в собственные силы, ему не удастся. И 23-летний Максимилиан Робеспьер (точнее, де Робеспьер, как он будет подписываться вплоть до 1790 года) благоразумно решил вернуться в Аррас, но скорее всего такое решение далось ему нелегко: столица обладала неодолимой притягательной силой. И хотя многие современники обличали тлетворную роль этого «погрязшего в пороках Вавилона», молодые люди со всех концов Франции, словно мотыльки на огонь, слетались туда, чтобы растратить состояние и запятнать свою репутацию.
Впоследствии отметят, что, став депутатом и переехав в Париж, Максимилиан не сразу освоился в городе, ибо плохо знал его. И это после того, как он прожил в нем более десяти лет! Можно только гадать, какой напряженной внутренней жизнью жил юный Робеспьер, если его совсем не заинтересовал город, считавшийся центром тогдашнего интеллектуального мира. «С политической точки зрения Париж слишком велик: голова несоразмерна с государственным организмом», — писал Луи Себастьян Мерсье, предвосхищая слова А. Токвиля о городе, «поглотившем все государство». Так, может быть, огромный город просто испугал юного провинциала? Или же он, как и Руссо, невзлюбил город с его пороками и суетой, и его, как и учителя, влекла природа, сей приют невинности, добродетели и счастья?
Завершив курс юридических наук и принеся присягу в Парижской коллегии адвокатов, Максимилиан Робеспьер вернулся в Аррас. «Возвращающиеся из Парижа к себе на родину считают себя вправе презирать все, что не согласуется с обычаями и нравами столицы; они лгут себе и окружающим», — отмечал Мерсье. Но к мэтру Робеспьеру такая характеристика не подходила. Содержимое его чемодана по-прежнему скудно, разве что прибавилось книг и бумаг, исписанных четким бисерным почерком (который со временем станет гораздо менее понятным), ими забит даже тот уголок, куда можно было бы сложить дары юности: любовь, безумства молодости, дружбу. Но их там нет, зато на самом дне нашло место убеждение в собственной непогрешимости. Сродни стремлению к добродетели стало и постоянное стремление выглядеть респектабельно, ибо респектабельность — враг хаоса, а от хаоса до порока один шаг. Порок же — это богатство и неравенство, это дурные нравы, развращенные, по мысли Руссо, образованием, наукой и искусствами.
Сосредоточенного молодого человека в скромном аккуратном платье и идеально сидящем парике встретила сестра Шарлотта (Огюстен уже отправился на учебу в коллеж Людовика Великого); по ее словам, друзья вместе с ней плакали от радости по случаю возвращения Максимилиана.
Судейское сообщество Арраса встретило Робеспьера уважительно и дружелюбно, он легко занял место в королевском суде Арраса, а вскоре — по рекомендации все того же епископа Конзье — и должность судьи в епископском суде, вызвав тем самым зависть многих коллег, ибо эта не слишком обременительная должность сулила значительный доход. Старейший и наиболее уважаемый адвокат в Аррасе, мэтр Либорель, взял молодого адвоката под свое покровительство. Сестра, вместе с которой Робеспьер поселился в добротном доме на улице Сомон, вела хозяйство; небольшое наследство, доставшееся им после смерти деда, позволяло начать вполне пристойную жизнь, исполненную надеждами на будущее. Однако ранимая и одновременно честолюбивая натура Робеспьера немедленно нашла повод для столкновения с родственниками — тетушкой со стороны отца, претендовавшей на 700 ливров из наследства Жака Карро; свое требование она мотивировала тем, что в свое время одолжила эту сумму отцу Максимилиана. После дотошных разбирательств Робеспьер все же позволил тетушке забрать искомую сумму.
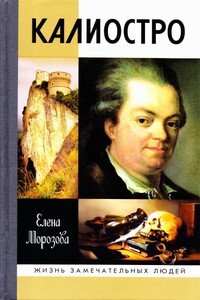
Масон, пророк и вызыватель духов, этот сицилиец, чье настоящее имя Джузеппе Бальзамо, обладал поистине неистощимой изобретательностью и незаурядными гипнотическими способностями, позволившими ему заморочить голову едва ли не всей просвещенной Европе. Но, уверовав в свою звезду, Калиостро не заметил, как стал разменной монетой в политических играх сильных мира сего, напуганных французской революцией. Пышный шлейф слухов, сопровождавший каждый шаг Калиостро, уже при жизни превратил его в личность загадочную, ставшую неистощимым источником вдохновения для писателей, поэтов, мистиков и оккультистов.

Джакомо Джироламо Казанова вошел в историю как великий любовник. Вечный странник, авантюрист, игрок, алхимик, тайный агент, писатель. переводчик, журналист — каких только занятий он не перепробовал! Но чем бы он ни занимался, на первом месте у него всегда стояли женщины. Подчинив всю свою жизнь стремлению к наслаждению, возведенному галантным XVIII веком до уровня философии. Казанова сделал любовь высшим смыслом своего существования.Несмотря на знакомство с монархами и знаменитостями, на переписку с просвещеннейшими людьми своего времени, известность пришла к Казанове только посмертно — после публикации его «Мемуаров», написанных в преклонные годы, когда, не в силах одерживать новые любовные победы, он скрашивал свой досуг воспоминаниями.
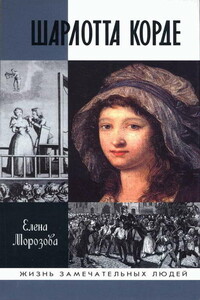
Жизнеописание Шарлотты Корде — это лишь маленькая часть истории Великой французской революции, где политика, этика, мораль и чувства, сплетенные воедино, получили трагическую развязку. Шарлотта Корде, разделявшая взгляды жирондистов, считала лидера якобинцев Марата главным виновником разгоревшейся гражданской войны. Решив спасти Францию ценой собственной жизни, она проникла в дом к Марату и заколола его ножом. Однако последствия этого поступка оказались совершенно иными, чем те, на которые она рассчитывала, — террор в стране был объявлен государственной политикой.
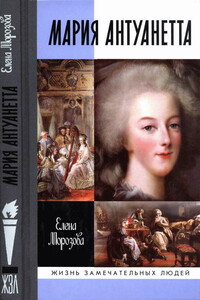
Мария Антуанетта (1755—1793), королева Франции, гильотинированная революционным французским народом. Известная своей любовью к нарядам и легкомысленным заявлением «Если у народа нет хлеба, пусть ест пирожные», она в разное время вызывала то ненависть, то неуемные хвалы. В настоящей книге автор, не осуждая и не восхваляя свою героиню, показывает ее не с позиций политической истории, а в контексте окружавшей ее повседневности, такой, какой видели ее современники — те, кто любил ее, и те, кто старался ее использовать или погубить.
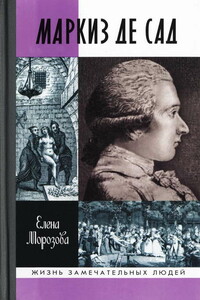
Произведения маркиза де Сада всегда воспринимались неоднозначно, вызывая у читателей то ужас, то восхищение, его сочинения проделали головокружительный взлет от томиков, читаемых украдкой, до солидных академических изданий. XVIII век считал его непристойным писателем, автором гнусных порнографических романов, названных «эталоном безобразия», XIX век снисходительно отнес его сочинения к области литературных курьезов, но век XX, радикально изменив отношение к маркизу, отвел ему достойное место в литературе эпохи Просвещения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
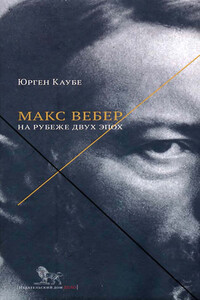
В тринадцать лет Макс Вебер штудирует труды Макиавелли и Лютера, в двадцать девять — уже профессор. В какие-то моменты он проявляет себя как рьяный националист, но в то же время с интересом знакомится с «американским образом жизни». Макс Вебер (1864-1920) — это не только один из самых влиятельных мыслителей модерна, но и невероятно яркая, противоречивая фигура духовной жизни Германии конца XIX — начала XX веков. Он страдает типичной для своей эпохи «нервной болезнью», работает как одержимый, но ни одну книгу не дописывает до конца.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
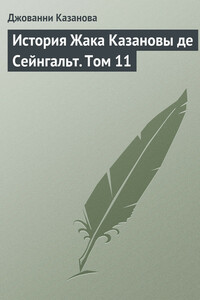
«Я вхожу в зал с прекрасной донной Игнасией, мы делаем там несколько туров, мы встречаем всюду стражу из солдат с примкнутыми к ружьям штыками, которые везде прогуливаются медленными шагами, чтобы быть готовыми задержать тех, кто нарушает мир ссорами. Мы танцуем до десяти часов менуэты и контрдансы, затем идем ужинать, сохраняя оба молчание, она – чтобы не внушить мне, быть может, желание отнестись к ней неуважительно, я – потому что, очень плохо говоря по-испански, не знаю, что ей сказать. После ужина я иду в ложу, где должен повидаться с Пишоной, и вижу там только незнакомые маски.
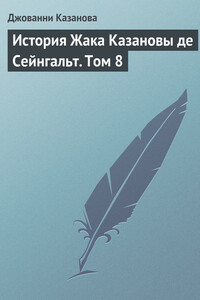
«В десять часов утра, освеженный приятным чувством, что снова оказался в этом Париже, таком несовершенном, но таком пленительном, так что ни один другой город в мире не может соперничать с ним в праве называться Городом, я отправился к моей дорогой м-м д’Юрфэ, которая встретила меня с распростертыми объятиями. Она мне сказала, что молодой д’Аранда чувствует себя хорошо, и что если я хочу, она пригласит его обедать с нами завтра. Я сказал, что мне это будет приятно, затем заверил ее, что операция, в результате которой она должна возродиться в облике мужчины, будет осуществлена тот час же, как Керилинт, один из трех повелителей розенкрейцеров, выйдет из подземелий инквизиции Лиссабона…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.