Религия и культура - [5]
Глава II КАТОЛИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА
1. Особенности «современного мира»
Так же как и современная философия, современный мир не является плодом полемики: это определенный исторический тип цивилизации, духовной доминантой которого являются идеи ренессансного гуманизма, протестантской Реформации и Реформации картезианской. Как охарактеризовать его с той точки зрения, на которой мы находимся? В нем, как и во всякой цивилизации, есть положительный момент онтологического напряжения и жизненной силы, которая, как нам кажется, основана на смелых, неустанных стремлениях дать человеческой природе максимум того, что можно получить на земле. Но с этим благим, самим по себе положительным моментом, достойным уважения и любви, связан и один недостаток. Скажем, хотя это уже стало банальным, но от этого не перестало быть верным — скажем так: культура в процессе своего естественного возрастания отдалилась от священного, чтобы повернуться к самому человеку.
Средневековье формировало человеческую природу в соответствии с «сакральным» типом цивилизации, основанным на убеждении, что земные установления, со всей их молодостью и силой, состоят в услужении Богу и божественным делам ради реализации его царства на земле. Средние века упрямо строили это царство на земле, мечтая — в конечном счете не слишком настойчиво, не мешая жизни делать свое дело — об иерархически упорядоченном мире, где Папа на вершине духовного обеспечивает единство церкви, а Император, находясь на вершине временного, обеспечивал бы политическое единство христианства. Мечта о Священной Империи, которая составляла идеал, «миф», тесно связана с культурными условиями этой эпохи; такая мечта, отброшенная раз и навсегда, предполагала, наряду с завидной верой в принципы, основательное незнание мира и крайний оптимизм; ее труп долго отягощал собой Новую историю. Понадобились Наполеон и весь XIX век, чтобы его окончательно похоронить.
Но вернемся в современный мир. Культура, такая, как он ее понимает, ставит перед собой чисто земные задачи, которые отныне довлеют сами себе и не являются в своей совокупности слишком возвышенными по отношению к Царству Божию; употребим слово, которое в последнее время использовалось многократно: это антропоцентрический тип культуры. Не забудем, что в силу естественного закона роста и под действием евангелического фермента, внесенного в человечество, в лоне этой цивилизации совершается некоторый прогресс, и его можно было бы назвать материальный, придав этому слову более широкий философский смысл, ибо материальная культура прогрессирует не только в области научных и технических средств эксплуатации природы, но и в области интеллектуальных, художественных, духовных инструментов развития; возрос даже уровень, не скажу — нравственной жизни или нравственного идеала, но понятий и чувств как средств формирования стабильных условий нравственной жизни. Это хрупкая структура, я знаю, но, в конце концов, идея рабства или пытки, или принуждения людей оружием к поступкам, противоречащим их совести, и ряд подобных идей сегодня, кажется, внушают отвращение большему числу людей, чем ранее, во всяком случае, осуждение этих идей сегодня перешло в разряд официально признанных общих мест, и это уже что-то значит.
В конечном счете, кажется, что замкнувшись в себе, человек испытал, как бы помимо собственной воли, движение интроверсии, свойственное разуму; он погрузился в себя — и не затем, чтобы искать Бога. Общий процесс самоосознания также является отличительной чертой нашего времени. В то время как мир по преимуществу отворачивался от духовности и от той любви, которая является нашей подлинной целью, ради внешних благ и эксплуатации чувственно воспринимаемой природы, вселенная имманентности являла себя, иногда сквозь тесные врата; субъективная углубленность открывала в науке, искусстве, поэзии, в самих страстях человека и его пороках присущую им духовность; потребность в свободе становилась тем острее, чем больше было стараний заранее избежать подлинных условий и подлинного познания свободы. Короче, в силу амбивалентности истории век рефлексов при всех поражениях и потерях, связанных с этим понятием, принес также несомненное обогащение, и это следует отнести к его достижениям в познании творчества и гуманизма, тем более что это познание должно было влиться в тот внутренний ад, который носит в себе человек, и стать его жертвой. Этот мрачный путь не безысходен, а идолы, родившиеся в нем, пополнили нашу субстанцию.
Все, что мы здесь только что в очень общем виде обозначили, как раз и имеется в виду, когда мы говорим о материальном прогрессе, к которому стремится современная цивилизация, и об усилиях, которые прилагаются к тому, чтобы человеческая природа смогла получить максимальную пользу на земле. Следует добавить, и это прояснит некоторые аспекты современного мира, что многое из того, что следовало сделать (и любой ценой, ибо воля Властелина истории не страшится помех) католикам, было сделано не ими и против них, а они — проявили малодушие. Ереси и расколы, войны и разрушения, и сам дьявол — подпадают под всеобщую власть руки Божией, работают помимо собственного желания на интригу, видимую Богу, стимулируют историю и продвигают ее дело. Границы их владений точно указывают пределы нашей ущербности.

Жак Маритен (1882–1973), крупнейший религиозный философ современности, основоположник, наряду с Э. Жильсоном, неотомизма, сосредоточен не столько на истории мысли, сколько на продвижении томистской доктрины в собственно метафизической области. Образцы такого рода труда, возвращающего нас в сферу «вечной философии», представлены в настоящем томе. В противовес многим философским знаменитостям XX в., Маритен не стремится прибегать к эффектному языку неологизмов; напротив, он пользуется неувядающим богатством классических категорий.

Жак Маритен (1882–1973) является ведущим представителем неотомизма — обновленной версии томизма, официальной философской доктрины католической церкви.Выпускник Сорбонны, в 1914 г. избирается профессором кафедры истории новой философии Католического института Парижа; год спустя начинает работу в коллеже Станислас (1915–1916). В 1913 г. публикует работу «Бергсоновская философия», в 1919 г. организует кружок по изучению томизма, идеи которого получают одобрение видных представителей французской культуры Ж..Руо, Ж..Кокто, М.Жакоба, М.Шагала, Н.Бердяева.

По примеру наипервейшей Истины, свет которой он делает доступным для нас, св. Фома Аквинский не взирает на лица: он приглашает на пир мудрости как учеников, так и учителей, как мастеров, так и подмастерьев, как деятелей, так и созерцателей, людей строгих правил и жизнелюбов, поэтов, художников, ученых, философов, да что я говорю — людей с улицы, наряду со священниками и богословами, лишь бы они готовы были слушать. И его учение является перед нами исполненным такой мощи и чистоты, что оно может воздействовать не только на взращенную в семинариях элиту посвященных, которой следовало бы внушать мысль о ее постоянной огромнейшей интеллектуальной ответственности, но и на мир культуры в целом; дабы вновь привести в порядок человеческий рассудок и таким образом, с Божией помощью, вернуть мир на пути Истины, чтобы он не погиб, оттого что более не знает ее.

Жак Маритен (1882-1973) является ведущим представителем неотомизма - обновленной версии томизма, официальной философской доктрины католической церкви.Выпускник Сорбонны, в 1914г. избирается профессором кафедры истории новой философии Католического института Парижа; год спустя начинает работу в коллеже Станислас (1915-1916). В 1913 г. публикует работу «Бергсоновская философия», в 1919 г. организует кружок по изучению томизма, идеи которого получают одобрение видных представителей французской культуры Ж..Руо, Ж..Кокто, М.Жакоба, М.Шагала, Н.Бердяева.

"Человек и государство" — не только теоретический трактат, но и "практический манифест". Маритен предлагает "конкретно-исторический идеал" для "новой демократии". Вдохновленный принципами томизма, он cтремится применить их в контексте культурной и политической ситуации, сложившейся после Второй мировой войны.
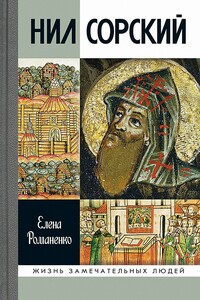
Рассказать о жизни святого — сложная задача. Его жизнь не так событийна, как жизнь государя или полководца. Его внутренний мир — это вообще тайна «за семью печатями». Однако повествуя о жизни преподобного Нила Сорского, видного церковного деятеля Средневековой Руси, автор находит свой ключ к «заветной двери». Этим ключом послужили тексты 24 житий древних святых, которые Нил Сорский отобрал в свои сборники. Они сохранились в автографах преподобного. И чем глубже погружаешься в них, тем больше понимаешь, о чем думал и что чувствовал человек, переписавший их 500 лет назад в небольшом скиту на реке Соре, неподалеку от Кирилло-Белозерского монастыря.
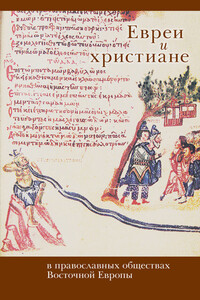
Книга отражает некоторые результаты исследовательской работы в рамках международного проекта «Христианство и иудаизм в православных и „латинских» культурах Европы. Средние века – Новое время», осуществляемого Центром «Украина и Россия» Института славяноведения РАН и Центром украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Цель проекта – последовательно сравнительный анализ отношения христиан (церкви, государства, образованных слоев и широких масс населения) к евреям в странах византийско-православного и западного («латинского») цивилизационного круга.
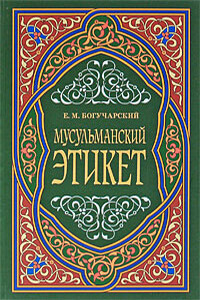
Если вы налаживаете деловые и культурные связи со странами Востока, вам не обойтись без знания истоков культуры мусульман, их ценностных ориентиров, менталитета и правил поведения в самых разных ситуациях. Об этом и многом другом, основываясь на многолетнем дипломатическом опыте, в своей книге вам расскажет Чрезвычайный и Полномочный Посланник, почетный работник Министерства иностранных дел РФ, кандидат исторических наук, доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России Евгений Максимович Богучарский.

Эта книга представляет историю церкви в виде простого, ясного, запоминающегося и увлекательного рассказа о выдающихся людях, великих идеях, грандиозных эпохах и ключевых событиях, благодаря которым христианство появилось, разрослось и вступило в XXI век в масштабах всей планеты. Труд профессора Брюса Шелли (1927—2010) стал классическим. Русский перевод выполнен по 4-му изданию, выверенному профессором теологии и философии Р. Л. Хэтчеттом.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
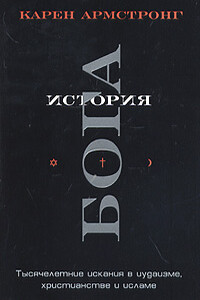
Откуда в нашем восприятии появилась сама идея единого Бога?Как менялись представления человека о Боге?Какими чертами наделили Его три мировые религии единобожия — иудаизм, христианство и ислам?Какое влияние оказали эти три религии друг на друга?Известный историк религии, англичанка Карен Армстронг наделена редкостными достоинствами: завидной ученостью и блистательным даром говорить просто о сложном. Она сотворила настоящее чудо, охватив в одной книге всю историю единобожия — от Авраама до наших дней, от античной философии, средневекового мистицизма, духовных исканий Возрождения и Реформации вплоть до скептицизма современной эпохи.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.