Религиозные основы общественности - [3]
2.
Столь же бесспорно, однако, в основе общения лежит и другое, в известном смысле противоположное начало: начало личной свободы, самодеятельности и спонтанного самообнаружения индивидуального «я». Какую бы роль в общественной жизни ни играл момент принуждения, внешнего давления на волю, — в последнем итоге участником общественности является все же личность, спонтанно действующая индивидуальная воля. Она есть единственный двигатель общественной жизни, и в отношении ее все остальное в обществе есть передаточный механизм. Существовали общества, основанные на рабском труде, и фактически во всяком обществе есть люди, доведенные до рабского состояния; но тогда они и не являются участниками и деятелями общественной жизни. Никакой дисциплиной, никаким жесточайшим давлением нельзя заменить спонтанного источника сил, истекающего из глубины человеческого духа: самая суровая военная дисциплина может только регулировать и воспитывать, а не творить воина — его творит только свободная воля к подвигу. Жизненное существо общества есть именно индивидуальная человеческая воля, которая по самому существу своему не может не быть свободной. Человек есть именно «образ и подобие Божие» и не может быть превращен в вещь или в механическую силу, действующую только под ударом или давлением извне. Всякая попытка парализовать индивидуальную волю, поскольку она вообще осуществима, приводит к потере человеком своего существа, как образа Божия, тем самым ведет к параличу и омертвению жизни, к гибели общества, вместе с человеком. Всякий деспотизм может вообще существовать, лишь поскольку он частичен, и со своей стороны опирается на свободную волю. Вот почему социализм в своем основном социально-философском замысле — заменить целиком индивидуальную волю, волей коллективной, как бы отменить самое бытие индивидуальной личности, поставить на его место бытие «коллектива», «общественного целого», как бы слепить или склеить монады в одно сплошное тесто «массы» — есть бессмысленная идея, нарушающая основной, неустранимый принцип общественности и могущая привести только к параличу и разложению общества. Он основан на безумной и кощунственной мечте, что человек ради планомерности и упорядоченности своего хозяйства, своей материальной жизни, способен добровольно отказаться от своей свободы, от своего «я» и стать целиком и без остатка винтом общественной машины, безличной средой действия общих сил. Фактически он не может привести ни к чему иному, кроме разнузданного самодурства деспотической власти и отупелой пассивности или звериного бунта подданных. Ибо человек, который лишается человеческого образа, не может быть членом и участником общества: он может быть только зверем или домашним животным, и, поскольку вообще мыслима такая потеря человеческого образа, общества быть не может: остается только фактическое господство диких зверей над домашними животными, причем последние втайне остаются все же неукрощенными и в любое мгновение могут обнаружить свою звериную природу. Социализм обречен гибнуть и от неподвижности, мертвости уже смешанного человеческого теста, и от таящегося в нем же хаоса неукрощенной анархии.
3.
Таким образом, всякое общество по самому своему существу должно опираться одновременно и на солидарность, на внутреннее единство, и на внутреннюю же свободу индивидуального «я»; оно должно быть истинным, исконным целым (и не только мнимым целым, извне и механически слагаемой суммой частей), и целым, состоящим из самодовлеющих, извнутри себя живущих и действующих целых. Общество есть некое первичное «мы», исконное единство, вне которого нет никаких «я», и вместе с тем оно есть совокупность отдельных «я», каждое из которых, будучи образом и подобием Божиим, единственно, неповторимо и живет извнутри себя самого. Другими словами, поскольку «мы» и «я», общество и личность, мыслятся первичными началами человеческой жизни, они стоят в непреодолимом и непримиримом противоборстве друг к другу. Каждое из этих начал не производно в отношении другого: «мы», сложенное из самодовлеющих «я», вообще не есть «мы», ибо «мы» есть единство «я» и «ты», т. е., предполагает некое самопреодоление «я», выхождение его за свои собственные пределы, внутреннее самоотречение; но и «мы», ради своего осуществления загубившее «я» — тоже не есть истинное «мы», а есть мертвая масса; и, с другой стороны, «я» есть одновременное и первичное, в себе утвержденное начало — ибо только такое, из глубины бытия идущее спонтанное самообнаружение мы и называем «я», личностью, человеком, и существо, которое только и мыслимо в составе «мы». В лице «мы» и «я», в лице начал солидарности и свободы, мы имеем два соотносительных начала, каждое из которых носит на себе печать абсолютного и первичного бытия, противоречит другому. Это не есть просто теоретическое противоречие наших понятий. Это есть реальная трудность: всякое общественное человеческое бытие, поскольку оно мыслится или само мыслит себя, как утвержденное в себе самом, как последняя самодовлеющая реальность, раздирается непримиримым противоречием между началами солидарности и свободы, общественности и личности. Начало солидарности испытывает всякую индивидуальную свободу, как умаление себя самого, как угрозу своему бытию; начало свободы испытывает всякое общественное единство, как уничтожение себя. И дело обстоит здесь не так, что одно начало может одолеть другое и восторжествовать за счет его умаления или уничтожения; так как противники связаны между собой неразрывными узами, то побежденный увлекает в своем падении и победителя, и оба гибнут вместе. Общество, утвержденное на себе самом, т. е. только на реальности человеческого бытия, обречено поэтому гибнуть в круговороте и вечном противоборстве между деспотизмом и анархией.

С. Л. ФРАНКДУША ЧЕЛОВЕКАОПЫТ ВВЕДЕНИЯ В ФИЛОСОФСКУЮ ПСИХОЛОГИЮИсходник: relig-library.pstu.ruИсточник текста: http://odinblago.ru.

Книга “Духовные основы общества” распадается на две последовательные темы: первая анализирует наиболее популярные социальные концепции XIX–XX вв.: историзм, биологизм, психологизм. Эти идолы социальной науки XIX в. создавали иллюзию возможности сведения общественной жизни к “естественным” первоосновам, которые можно было бы описывать языком позитивной науки. Простые, но неотразимые аргументы С. Л. Франка обнаруживают внутреннее противоречие этих установок, тщетно стремящихся вывести высшее из низшего. Параллельно автор вводит принципиальное для него различение “соборного” и “общественного”.

Предлагаемый сборник статей о книге Шпенглера "[Der] Untergang des Abendlandes" не объединен общностью миросозерцания его участников. Общее между ними лишь в сознании значительности самой темы — о духовной культуре и ее современном кризисе. С этой точки зрения, как бы ни относиться к идеям Шпенглера по существу, книга его представляется участникам сборника в высшей степени симптоматичной и примечательной.Главная задача сборника — ввести читателя в мир идей Шпенглера. Более систематическому изложению этих идей посвящена статья Ф.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
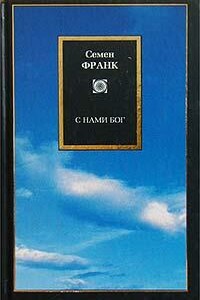
Выдающийся русский религиозный философ Семен Людвигович Франк (1877-1950), замечательно последовательно развивающий основную парадигму русской религиозной философии – парадигму Всеединства, в помещенных в настоящем издании работах выступает в нехарактерной для себя роли – выходит за пределы чистой, если так можно выразиться, философии и создает плодотворную модель сопряжения последней с богословием. В данной книге Франк излагает основы христианства и доказывает, что все существенное содержание христианства основано на религиозном опыте, на «встрече человеческого сердца с Богом», на живом «общении с Богом».

Книга известного церковного историка Михаила Витальевича Шкаровского посвящена истории Константино польской Православной Церкви в XX веке, главным образом в 1910-е — 1950-е гг. Эти годы стали не только очень важным, но и наименее исследованным периодом в истории Вселенского Патриархата, когда, с одной стороны, само его существование оказалось под угрозой, а с другой — он начал распространять свою юрисдикцию на разные страны, где проживала православная диаспора, порой вступая в острые конфликты с другими Поместными Православными Церквами.

"Еще два года назад можно было надеяться, что начавшееся духовное пробуждение России будет постепенно набирать силу и в течение десятилетий незаметным и кропотливым, не афиширующим себя трудом удастся восстановить и в душах людей и в стране то, что разрушалось и ветшало также десятилетиями. Сегодня уже невозможно столь беспроблемно видеть наше будущее. Стена, воздвигнутая государственным атеизмом между ныне живущими и духовной культурой исторической России, пала, но ее энергично бросились восстанавливать протестантские проповедники со всего света. В этой статье я попробую дать ответ на два вопроса: во-первых, почему меня тревожит активность протестантов в России, а во-вторых, почему же Православная Церковь без всяких попыток реального сопротивления отдает Россию американским и корейским проповедникам.".
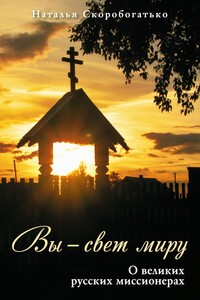
В сонме канонизированных Православной Церковью святых особое место принадлежит миссионерам — распространителям православной веры среди иноверцев. Их труды часто именуют апостольской деятельностью. В этой небольшой по объёму книге повествуется о трёх великих русских миссионерах, просветивших светом Христова учения Аляску, восточную часть России и Японию. Речь пойдёт о преподобном Германе Аляскинском, святителях Иннокентии Московском и Николае Японском. Книга предназначена для детей среднего школьного возраста.
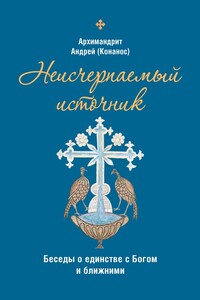
В книге архимандрита Андрея (Конаноса) «Неисчерпаемый источник» собраны беседы известного современного проповедника, которые учат, как найти источник любви, как прийти в единение с Богом, собой и ближними, как это единение может наполнить сердце радостью и утешением. «Минуты любви наполняют сердце счастьем и утешением, потому что ты возвращаешься в своё реальное устроение: ты ведь таким и был создан — ты рождён, чтобы любить. Ты себя плохо чувствуешь, когда не получаешь любви. Тогда ты испытываешь боль, мы все тогда испытываем боль.
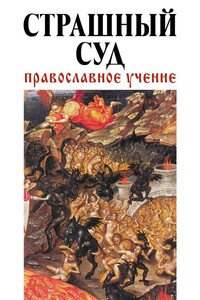
О конце мира и Страшном Суде говорили святые пророки и апостолы; об этом говорит Священное Писание. Иисус Христос незадолго до смерти открыл ученикам тайну кончины мира и Своего Второго Пришествия. День Страшного Суда неизвестен, поэтому каждый христианин должен быть готов ко Второму Пришествию Господа на землю, к часу, когда придется ответить за свои грехи. В этой книге изложено сохраненное Православной Церковью священное знание о судьбе мира. Также собраны рассказы о загробной жизни, явлениях умерших из потустороннего мира, о мучениях грешников в аду и блаженстве праведников в Раю. Книга рекомендована Издательским Советом Русской Православной Церкви.
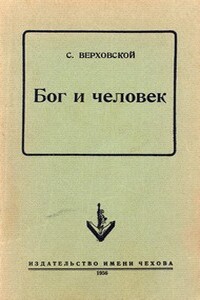
С. С. Верховский "Бог и человек"УЧЕНИЕ О БОГЕ И БОГОПОЗНАНИИ В СВЕТЕ ПРАВОСЛАВИЯЗамысел этой книги — дать читателю представление о Боге и о том, как мы можем приблизиться к Нему, узнать Его и быть с Ним в общении. Я хотел дать общее введение в тему книги и очерк библейского и отеческого учения о пути к Богу и о Самом Боге. Но размеры книги не позволили исполнить первоначальный план и рукопись моя была сильно сокращена. Пришлось отказаться от введения, выпустить учение святых отцов, живших до четвертого века; сократить многие главы.