Рай в шалаше - [63]
Таню пугала легкость исторических бесед, а Димычу и его приятелям приятно было разговаривать друг с другом — они все читали Костомарова, у всех был Соловьев и Ключевский, многие имели или мечтали иметь Карамзина и Татищева. Все так... Но когда Натальин Фролов неуклюже заговорил однажды с Таней о той же истории (праздновалось пятилетие счастливого их с Натальей брака), о какой-то редкой книге, мемуарах времен Ивана Грозного, Фроловым добытой, что-то вроде «Россия глазами англичанина», Таня поймала себя на мысли, что корявые, тяжело поворачивающиеся фразы Фролова слушать ей интереснее — в них была первозданность открывателя, труд постичь нечто, имевшее отношение к нему, Фролову лично, его корням и истокам, его рабскому, поротому прошлому, в них было великое изумление перед пестротой и диковинностью минувшей жизни, ее крутыми изломами и характерами, в которых Фролов с еще бо́льшим изумлением открывал повторяемость, похожесть своих наблюдений и наблюдений всеми забытого англичанина, занесенного в Россию волею необычайных обстоятельств. Россия и ее судьба... это была его боль, и в Тане она родственно отозвалась, и Фролов почувствовал это, и, хотя потом он снова на несколько лет замолчал, Таня уже знала, что его молчание не пусто — там, закрытая от всех, шла своя работа.
В разговорах Ковалева и его окружения Тане этого не было слышно. Была заинтересованная любознательность, был спорт размышлений, была модельная прикидка: что было бы, если бы... Не было (тут мы позволим себе высказаться Таниными словами) сочувственной сострадательности, что ли, извиняющейся интонации личного своего приобщения к роду человеческому, который вот ведь что творит и вот ведь часто на что способен. История, ближайшая и отдаленная, становилась тем самым уже не своим, кровным, а — хотелось этого Димычу или нет, скорее не хотелось, но так получалось, так вела его звезда быстрого восхождения и включенности в мир так называемого абстрактного интеллекта, — предметом неравнодушного, но все же рассмотрения, а не переживания.
...Вряд ли именно эти сложные соображения могли так задевать Катрин, когда она слушала речи своего мужа, но оттенок умствования она, несомненно, улавливала, и, живя среди умствования круглосуточно, то есть живя так называемой «интересной жизнью», жизнь эту она с каждым годом переносила все хуже. Что касается Тани, то ее при пересечении их «кругов», а пересекались они сравнительно часто (Ковалевы их любили, и Таню любили отдельно, и интересовались ее работой, особенно Катерина, одно время она даже ходила к Тане в институт на семинары), то Таню всякий раз поражала розность и все же внутренняя схожесть Денисова и Ковалева в отношении ко всему, что не касалось их науки, в применении же к Денисову лучше выразиться — деятельности. Валентин предпочитал потреблять все так называемое «духовное», в том числе историю, в готовой расфасовке, во всяком случае у Тани было такое подозрение; Димыч склонялся к тому, чтобы самому попытаться распределять, то есть расфасовывать, известные ему факты в той последовательности, в которой незаметным образом предлагали ему это сделать среда и давно сложившаяся в ней атмосфера. В сущности, какая же была между ними разница? На поверку получалось, что оба приятеля потребляли готовое. А у незаметного Фролова, затюканного мужа энергичной жены, выражаясь по старинке, болела душа.
Нет, нам опять-таки не хотелось бы выглядеть столь категоричными, это не наше мнение, это Танина нетерпимость, а может быть, особенность ее профессии? Если профессия Денисова и Ковалева в чем-то их обездоливала, то почему бы не предположить, что и Таня в попытке анализировать живую жизнь не обходилась без потерь? Почему бы не предположить, далее, что и Катерина, учившаяся когда-то вместе с Денисовым и Ковалевым в одной группе, и учившаяся не хуже других, могла чувствовать себя обездоленной. Не каждой женщине дано раствориться в мужчине.
Вопрос: следует ли считать ее за это плохой? Ответа дать мы не сумеем. Но факт тот, что в конце концов от своей обеспеченной жизни Катерина сбежала на работу: начала читать лекции почасовиком в Авиационном институте, потом стала заведовать кафедрой в Институте транспорта. Опять-таки вопрос: лучше ли стало от этого Дмитрию Ивановичу Ковалеву, то есть удобнее, уютнее ли, и не теряет ли наша отечественная наука от излишней эмансипированности наших жен в тех случаях, когда пользы страны ради следовало бы запретить эмансипацию декретом по охране государственной собственности. В самом деле! Ведь подлежат же охране храмы минувших эпох, редкие породы рыб, даже белые медведи взяты нынче под охрану, — пора охранять мозги!
Но вернемся к тому, с чего начали, то есть к проблеме сорокалетнего мужчины, ощутившего, что время подкралось незаметно и вот-вот захлопнет наглухо, задует двери, открытые пока что как бы сами собой, авансом.
...Так вот, Ковалев был, пожалуй, единственным, кто безмятежно миновал рубеж сорокалетия, не заметив, как трудно дается этот возраст многим из его близких, в том числе самой близкой — жене. Все как будто у Катерины наладилось, и завкафедрой Екатерина Павловна Ковалева редко виделась теперь с Татьяной Николаевной Денисовой и давно перестала прибегать к Тане в институт, теперь они перезванивались только да встречались по праздникам. И все же... Для Тани неожиданно...
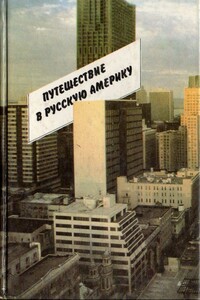
Новая книга Галины Башкировой и Геннадия Васильева поможет читателю живо увидеть малоизвестный для нас мир русских (как называют на Западе всех выходцев не только из России, но из всего СССР) эмигрантов разных лет в Америке, познакомиться с яркими его представителями — и знаменитыми, как Нобелевский лауреат, экономист с мировым именем Василий Васильевич Леонтьев или художник Михаил Шемякин, и менее известными, но по-человечески чрезвычайно интересными нашими современниками.
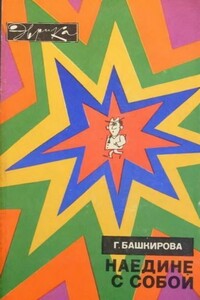
Что мы знаем о себе, о секретах собственной психики? До конца ли мы реализуем возможности, отпущенные нам природой? Можем ли мы научиться прогнозировать свое поведение в горе и в радости? А в катастрофе, в аварии, наконец, просто на экзамене? А что нам известно о том, как формировался в веках психический склад личности? О том, что такое стресс и как изучают его психологи?Человек и становление его духовного мира, парадоксы нашей психики, эмоциональное осмысление того нового, что несет с собой научно-техническая революция, нравственные аспекты науки.Прим OCR: Это одна из нестареющих книг.

Владимир Поляков — известный автор сатирических комедий, комедийных фильмов и пьес для театров, автор многих спектаклей Театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Им написано множество юмористических и сатирических рассказов и фельетонов, вышедших в его книгах «День открытых сердец», «Я иду на свидание», «Семь этажей без лифта» и др. Для его рассказов характерно сочетание юмора, сатиры и лирики.Новая книга «Моя сто девяностая школа» не совсем обычна для Полякова: в ней лирико-юмористические рассказы переплетаются с воспоминаниями детства, героями рассказов являются его товарищи по школьной скамье, а местом действия — сто девяностая школа, ныне сорок седьмая школа Ленинграда.Книга изобилует веселыми ситуациями, достоверными приметами быстротекущего, изменчивого времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу известного ленинградского писателя Александра Розена вошли произведения о мире и войне, о событиях, свидетелем и участником которых был автор.


