Растождествления - [34]
4.
Некий хасидский мастер определяет еврейский грех: «Величайший грех еврея — забыть, что он царский сын». Мы читаем тавтологичнее: «Величайший грех еврея — забыть, что он еврей». После походов Александра, этого первого всемирно–исторического синопсиса региональных культур, выясняется, что быть евреем означает: проблему. Проблемой называется (с Платона и присно) modus vivendi идеи, её мы слетело, по–христиански: жало в плоти, — соответственно: еврейская проблема совпадает с самого начала с идеей еврейства, как такового. Люциферически–метафизическим льготам греков, как и позднего христианского Запада, противопоставлены здесь заботы экзистенциальные; в позднем антиплатонизме Сартра, где экзистенция предшествует эссенции, явлены скорее всего лишь метафизически осмысленные осадки «жизненного мира» еврейства. Если инстинкт самосохранения у других народов осуществлялся преимущественно через традицию, историю, нравы и обычаи, короче, через верность прошлому, то стоило лишь традиции поблекнуть, а нравам и обычаям привлекать внимание лишь этнологов, как инстинкт этот неизбежно ослабевал и притуплялся. Характерная черта еврейского инстинкта самосохранения выражается, напротив, в том, что этот последний не обнаруживает ни малейшей тоски по прошлому, а всегда соотнесен с настоящим. Культа прошлого, силою которого другие народы влачат своё фантомное существование, препоручая своё настоящее музейным гидам, здесь нет и в помине; еврейское прошлое — это не совершенное прошедшее, отданное на милость туристам, а просто–напросто прошедшее в настоящем. Если, таким образом, реальность прочих давних народов, то, что заставляло бы считаться с ними и сегодня, состоит из минувших дней, спиритически вызываемых в настоящем, то еврейское настоящее есть непрерывное осознание себя в своей отождествленности с прошлым, некое перманентно осовремениваемое прошлое, стало быть не воспоминание из настоящего о бывшем, а ежемгновенное утверждение бывшего в настоящем и как настоящее. По этой причине еврей не говорит: «Когда Моисей вывел наших предков…»; он говорит: «Когда Моисей вывел нас…» Ибо гарантией перманентности оказывается здесь, как отмечено, не (абстрактный) дух, а (непрерывно ревитализирующее себя) народное тело. Тщательность и филигранность, с которой это народное тело тысячелетиями выделывалось раввинами, позволяетmutatis mutandis сравнить себя, пожалуй, только с техникой средневековых докторов при шлифовке логических понятий; раввин — это схоласт тела, которое он тематизирует не менее старательно, чем схоласт свои amplius, adhuc, item, praeteria и т. п. Вопросы, сколько ангелов уместились бы на кончике иглы, или: сколько гребцов было в лодке Улисса в такой–то песне Одиссеи, образуют некое логологическое подобие талмудических наставлений ad hoc: скажем, относительно условий, при которых можно, соответственно, нельзя совокупляться или, скажем, ковырять в носу — в том и другом случае на потеху мирянам и профанам. Достаточно лишь сравнить эту интравертную, шокирующую, лунатическую физиологию со ставшей общим местом сверхтрезвостью еврейского интеллекта, чтобы очутиться лицом к лицу с причудливым парадоксом, в котором лишенный корней, скептический, иссохший в рассудочности дух уживается с тертуллиановски абсурдной мистикой плоти. Еврейский оптимум и первофеномен обнаруживается, таким образом, не в присутствии духа, а, скорее, в присутствии тела, где телу придается такое же трансцендентально универсальное значение, что и духу в арабски (аверроистски) разведенной мысли Запада.
5.
Если, таким образом, величайшим грехом, на который вообще способен еврей, является забыть свое царское, читай: еврейское происхождение, то спасение от греха может лежать в некой телесно усвоенной и усовершенствованной мнемонике, при которой исключалась бы сама возможность утраты памяти об иудейском генезисе (берешит). Очевидно, что подобная изолированность и эксклюзивность, лишенная к тому же (со времен Адриана до 1948 года) всякой возможности быть пространственно локализованной — еврейское чудо: ubi sum, ibi Israeli (где я, там Израиль!) — никак не могла навлечь на себя легкую судьбу. Антисемитизм, с которым в настоящее время может соперничать разве что ненависть к немецкому, следует повсюду за еврейством словно тень, то в форме эндемических взрывов ненависти толпы, то в образованных головах всякого рода местечковых массовых подстрекателей. В антисемитизме заслуживает внимания не столько то, что он сам по себе есть (его «сам–по–себе» полностью выдыхается уже в префиксе «анти»), сколько то, как именно он воспринимается и используется своими отрицателями. Что антисемитизм в настоящее время выступает, как правило, в качестве пугала, которого остерегаются больше, чем того, что он отпугивает, свидетельствует лишь о первобытно–примитивном и поздне–декадентском характере нашего времени. Количество граждан, способных по слову антисемитизм определять степень своих нервных срывов, растет изо дня в день. При этом на придурковатый антисемитизм бритоголовых показательным образом реагируют рассчетливее, даже снисходительнее, чем на требование видеть в нем проблему, которую следовало бы не заглушать рыком, а брать умом. Бедные перевоспитанные немцы, столь единодушно ненавидящие себя в заколдованном круге своей двенадцатилетней любви к Гитлеру, не могут, даже будучи антропософами, преодолеть посленаркозный паралич и справиться с проблемой Гитлер, не впадая в истерику. Нужно лишь обратить внимание на шум, не смолкающий в антропософской периодике в связи с рядом высказываний Рудольфа Штейнера о еврействе
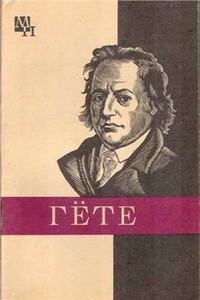
Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.

Лекция прочитанная в МГУ им. Ломоносова в 25 мая 2005 г. "Философии по большому счету, — нет. Исчезли философские проблемы. Философия была всегда последовательностью проблем, а сейчас этого вовсе нет. Все эти Деррида склонированы с Хайдеггера, которому принадлежит честь быть первым дезертиром западной философии. Великую и трагическую работу мысли более чем двух тысячелетий он свёл просто к какой-то аграрной мистике. Гуссерль именно этому ужаснулся в своем талантливом ученике. Хайдеггер — это что-то вроде Рильке в философии.

Если это диагноз, то путь от него ведет сначала назад к анамнезу и только потом уже к перспективам: самоидентификации или - распада. Немного острого внимания, и взору предстает картина, потенцируемая философски: в проблему, а нозологически: в болезнь. Что человек уже с первых шагов, делаемых им в пространстве истории, бьется головой о проблему своей идентичности, доказывается множеством древнейших свидетельств, среди которых решающее место принадлжеит дельфийскому оракулу "познай самого себя". Характерно, что он продолжает биться об нее даже после того, как ему взбрело в голову огласить конец истории, и сделать это там, где история еще даже толком не началась, хотя истории оттуда вот уже с полвека как задается тон.

Макс Нордау"Вырождение. Современные французы."Имя Макса Нордау (1849—1923) было популярно на Западе и в России в конце прошлого столетия. В главном своем сочинении «Вырождение» он, врач но образованию, ученик Ч. Ломброзо, предпринял оригинальную попытку интерпретации «заката Европы». Нордау возложил ответственность за эпоху декаданса на кумиров своего времени — Ф. Ницше, Л. Толстого, П. Верлена, О. Уайльда, прерафаэлитов и других, давая их творчеству парадоксальную характеристику. И, хотя его концепция подверглась жесткой критике, в каких-то моментах его видение цивилизации оказалось довольно точным.В книгу включены также очерки «Современные французы», где читатель познакомится с галереей литературных портретов, в частности Бальзака, Мишле, Мопассана и других писателей.Эти произведения издаются на русском языке впервые после почти столетнего перерыва.

В книге представлено исследование формирования идеи понятия у Гегеля, его способа мышления, а также идеи "несчастного сознания". Философия Гегеля не может быть сведена к нескольким логическим формулам. Или, скорее, эти формулы скрывают нечто такое, что с самого начала не является чисто логическим. Диалектика, прежде чем быть методом, представляет собой опыт, на основе которого Гегель переходит от одной идеи к другой. Негативность — это само движение разума, посредством которого он всегда выходит за пределы того, чем является.

В Тибетской книге мертвых описана типичная посмертная участь неподготовленного человека, каких среди нас – большинство. Ее цель – помочь нам, объяснить, каким именно образом наши поступки и психические состояния влияют на наше посмертье. Но ценность Тибетской книги мертвых заключается не только в подготовке к смерти. Нет никакой необходимости умирать, чтобы воспользоваться ее советами. Они настолько психологичны и применимы в нашей теперешней жизни, что ими можно и нужно руководствоваться прямо сейчас, не дожидаясь последнего часа.

На основе анализа уникальных средневековых источников известный российский востоковед Александр Игнатенко прослеживает влияние категории Зеркало на становление исламской спекулятивной мысли – философии, теологии, теоретического мистицизма, этики. Эта категория, начавшая формироваться в Коране и хадисах (исламском Предании) и находившаяся в постоянной динамике, стала системообразующей для ислама – определявшей не только то или иное решение конкретных философских и теологических проблем, но и общее направление и конечные результаты эволюции спекулятивной мысли в культуре, в которой действовало табу на изображение живых одухотворенных существ.
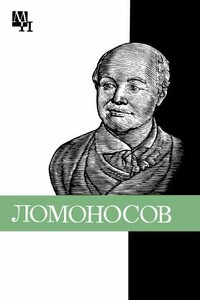
Книга посвящена жизни и творчеству М. В. Ломоносова (1711—1765), выдающегося русского ученого, естествоиспытателя, основоположника физической химии, философа, историка, поэта. Основное внимание автор уделяет философским взглядам ученого, его материалистической «корпускулярной философии».Для широкого круга читателей.

В монографии на материале оригинальных текстов исследуется онтологическая семантика поэтического слова французского поэта-символиста Артюра Рембо (1854–1891). Философский анализ произведений А. Рембо осуществляется на основе подстрочных переводов, фиксирующих лексико-грамматическое ядро оригинала.Работа представляет теоретический интерес для философов, филологов, искусствоведов. Может быть использована как материал спецкурса и спецпрактикума для студентов.