Растождествления - [33]
3.
Иудейство, ориентирующееся на юдаизм, характеризует еврейский народ, как таковой, в его преемственности и непрерывности. Приверженность к Торе с её культивированной и проверенной в тысячелетиях системой кровных совместительств, прежде же всего необыкновенная закрытость и как бы трансцендентность жизненного уклада, перед которым чужой при любых обстоятельствах должен чувствовать свою чуждость, — всё это свидетельствует о некой этноврожденной неартистичности и инстинктивной неспособности к античному carpe diem. Иудейство, как никакой другой этнос, — серьезно; еврейский юмор — это никогда не юмор висельника или просто жизнелюба и балагура, а некое удвоение серьезности; еврей шутит не для того, чтобы отвлечься от серьезности, а чтобы сильнее привлечься к ней: когда, скажем, серьезность притупляется и воспринимается не с должной серьезностью; иначе: он шутит, чтобы было не до шуток. Серьезность иудейства — его судьба между ассимиляцией себя и ассимиляцией в себя. Если чужой, очутившийся в греческом культурном пространстве, ощущал себя и был чужим именно по языку (Овидий: «Barbarus hic ego sum, quia non intelligor ulli»), то отчуждение в еврейском жизненном пространстве выглядело несравненно сложнее. Стать греком значило участвовать в греческой культуре, то есть, прежде всего уметь говорить и мыслить по- гречески. В сравнении с этим, с этой придуманной и продуманной предпосылкой, стать евреем — сегодня, как и три тысячи лет назад, — значит стать некой «вещью в себе». Если греческая идентичность гарантируется культурой, то еврейская определяется единственно религией. «Мы являемся, — говорит Авраам Иошуа Хешель, — уникальным примером народа, отождествленного с религией». Оттого значение понятия «еврей» измеряется не только обычными этническими критериями, как, скажем, в случае «француза» или«испанца», но исключительно по признаку религиозного, совпадающего с демотическим. «Еврей», по понятию, означает вовсе не то же, что «француз» или «испанец»; мы должны были бы, по существу, гово–рить: «франкохристианин» или «испанохристианин», чтобы найти более соответствующую параллель к «еврею». Оттого есть французские евреи, испанские евреи, русские евреи, но нет еврейских французов, еврейских испанцев, еврейских русских. Этническая принадлежность совпадает с религией уже и по знаку слова; еврей, заполняющий анкету, пишет одно и то же в графе национальность (на послевоенном немецком это называется: подданство) и в графе религия. Взаимная зависимость той и другой лучше всего проясняется на старой парадигме души и тела, а именно таким образом, что юдаизм (религия) есть тело, в котором иудейство (национальность) обитает как душа. Можно лишь догадываться, сколь нелепой, если не извращенной, выглядит старая орфическо–платоническая апофтегма soma- sema (тело, как гроб души) в еврейском восприятии; еврейское тело — не гроб, а отчий дом души, её синагога, что означает: бренная душа живет здесь лишь телом, в теле, милостью тела, которое — бессмертно. Следует при этом помнить, что под телом имеется в виду никак не habeas corpus вот этого вот одного человека, а народное тело, в ощутимой непрерывности которого отдельные тела граждан так же объединяются в тысячелетиях, как чувственные восприятия в трансцендентальной апперцепции кантовского механизма познания. Юдаизм, как тело иудейства, олицетворяет тем самым еврейское Я, или еврейскую идентичность. Характерно, что эта религия, несмотря на свой подчеркнутый национальный характер, имеет значимость мировой религии — факт, который по сравнению с другими мировыми религиями, не мотивируется ни с качественной, ни с количественной стороны. Мировая религия означает здесь не безродное и метафизическое самообретение в человечестве (христианство), ни даже в–себе–замкнутое обретение себя в своем Боге (ислам); юдаизм хочет относиться к миру, как дрожжи к тесту: «There will be по humanity without Israel», так гласит это еще и сегодня в устах выдающегося раввина и профессора Авраама Иошуа Хешеля. Воля к выживанию, являющаяся в случае любого другого народа биологической необходимостью, оказывается в еврейском случае необходимостью экуменической и католической: еврей выживает не индивидуально, а народно, потому что его народ репрезентирует человечество. — Здесь и обнаруживается своеобразие и как бы необратимость ассимиляции: чем труднее для еврея стать неевреем (в силу ставшей кровью и плотью религиозности, которая ipso facto утверждается не метафизически, а абсолютно физически, телесно–физически), тем легче и беспрепятственнее может, напротив, нееврей, которому заказан экзистенциальный доступ к еврейскому, эссенциально (= интеллектуально, культурно) стать евреем. Через это, по–видимому, и объясняется упомянутая выше двойная оптика, по которой евреев в мире больше, чем их есть. Иудейство, осознающее и формирующее себя в юдаизме, представляет собой, поэтому, некую сеть изоляторов в гетерогенных культурных пространствах. Понятие гетто, которому после 1945 года принадлежит видное место в списке криминализированных понятий и о котором нельзя уже, очевидно, не только говорить, но и молчать, так как, говоря о нем, впадают в антисемитизм, а не говоря, этот же антисемитизм замалчивают, оказывается лишь исконным и, прежде всего, добровольным понятием еврейской оседлости, неким становищем еврейства в самой сердцевине чуждого мира, в котором оно умудряется жить, не живя в нем. При этом сами пространственно организованные гетто, как и еврейские кладбища или еврейские кварталы, являются лишь архитектоническим выражением еврейского первофеномена: гетто — это как раз урбанистический символ души, в огражденности которой и под протекцией которой тело сохраняет свою неприкосновенность. Тем невыносимее вызвучивается диссонанс, когда к названной тенденции присоединяется другая: попытка обрести себя за пределами гетто. С новым человеком Павла (Кол. 3,11), который «обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея […], но всё и во всем Христос», еврейство стоит перед испытанием, от которого зависит его судьба, а вместе с ней и судьба мира. Еврейская судьба явлена здесь расщелиной между иудейством, как юдаизированной волей, и иудейством, как секуляризированным представлением. Иными словами: между Израилем, как религией, и Израилем, как нацией.
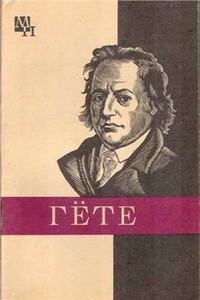
Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.

Лекция прочитанная в МГУ им. Ломоносова в 25 мая 2005 г. "Философии по большому счету, — нет. Исчезли философские проблемы. Философия была всегда последовательностью проблем, а сейчас этого вовсе нет. Все эти Деррида склонированы с Хайдеггера, которому принадлежит честь быть первым дезертиром западной философии. Великую и трагическую работу мысли более чем двух тысячелетий он свёл просто к какой-то аграрной мистике. Гуссерль именно этому ужаснулся в своем талантливом ученике. Хайдеггер — это что-то вроде Рильке в философии.

Если это диагноз, то путь от него ведет сначала назад к анамнезу и только потом уже к перспективам: самоидентификации или - распада. Немного острого внимания, и взору предстает картина, потенцируемая философски: в проблему, а нозологически: в болезнь. Что человек уже с первых шагов, делаемых им в пространстве истории, бьется головой о проблему своей идентичности, доказывается множеством древнейших свидетельств, среди которых решающее место принадлжеит дельфийскому оракулу "познай самого себя". Характерно, что он продолжает биться об нее даже после того, как ему взбрело в голову огласить конец истории, и сделать это там, где история еще даже толком не началась, хотя истории оттуда вот уже с полвека как задается тон.

Макс Нордау"Вырождение. Современные французы."Имя Макса Нордау (1849—1923) было популярно на Западе и в России в конце прошлого столетия. В главном своем сочинении «Вырождение» он, врач но образованию, ученик Ч. Ломброзо, предпринял оригинальную попытку интерпретации «заката Европы». Нордау возложил ответственность за эпоху декаданса на кумиров своего времени — Ф. Ницше, Л. Толстого, П. Верлена, О. Уайльда, прерафаэлитов и других, давая их творчеству парадоксальную характеристику. И, хотя его концепция подверглась жесткой критике, в каких-то моментах его видение цивилизации оказалось довольно точным.В книгу включены также очерки «Современные французы», где читатель познакомится с галереей литературных портретов, в частности Бальзака, Мишле, Мопассана и других писателей.Эти произведения издаются на русском языке впервые после почти столетнего перерыва.

В книге представлено исследование формирования идеи понятия у Гегеля, его способа мышления, а также идеи "несчастного сознания". Философия Гегеля не может быть сведена к нескольким логическим формулам. Или, скорее, эти формулы скрывают нечто такое, что с самого начала не является чисто логическим. Диалектика, прежде чем быть методом, представляет собой опыт, на основе которого Гегель переходит от одной идеи к другой. Негативность — это само движение разума, посредством которого он всегда выходит за пределы того, чем является.

В Тибетской книге мертвых описана типичная посмертная участь неподготовленного человека, каких среди нас – большинство. Ее цель – помочь нам, объяснить, каким именно образом наши поступки и психические состояния влияют на наше посмертье. Но ценность Тибетской книги мертвых заключается не только в подготовке к смерти. Нет никакой необходимости умирать, чтобы воспользоваться ее советами. Они настолько психологичны и применимы в нашей теперешней жизни, что ими можно и нужно руководствоваться прямо сейчас, не дожидаясь последнего часа.

На основе анализа уникальных средневековых источников известный российский востоковед Александр Игнатенко прослеживает влияние категории Зеркало на становление исламской спекулятивной мысли – философии, теологии, теоретического мистицизма, этики. Эта категория, начавшая формироваться в Коране и хадисах (исламском Предании) и находившаяся в постоянной динамике, стала системообразующей для ислама – определявшей не только то или иное решение конкретных философских и теологических проблем, но и общее направление и конечные результаты эволюции спекулятивной мысли в культуре, в которой действовало табу на изображение живых одухотворенных существ.
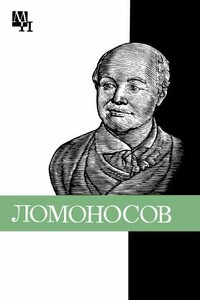
Книга посвящена жизни и творчеству М. В. Ломоносова (1711—1765), выдающегося русского ученого, естествоиспытателя, основоположника физической химии, философа, историка, поэта. Основное внимание автор уделяет философским взглядам ученого, его материалистической «корпускулярной философии».Для широкого круга читателей.

В монографии на материале оригинальных текстов исследуется онтологическая семантика поэтического слова французского поэта-символиста Артюра Рембо (1854–1891). Философский анализ произведений А. Рембо осуществляется на основе подстрочных переводов, фиксирующих лексико-грамматическое ядро оригинала.Работа представляет теоретический интерес для философов, филологов, искусствоведов. Может быть использована как материал спецкурса и спецпрактикума для студентов.