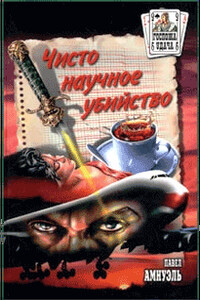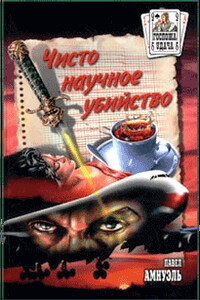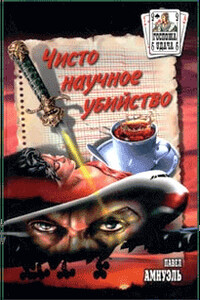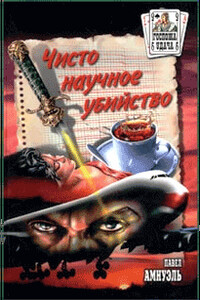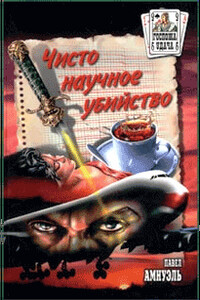— Никак нам не удается закончить разговор, — пожаловался я. — То одно, то другое… Что ты сделал с ордером на мой арест?
— Его никогда не было, — сказал Роман, — хотя одно время Липкин был уверен, что я неправ, и что убийцами могут быть и историки.
— О второй Айше Ступник, — сказал я. — На студии были неисправны часы?
— Примитивно мыслишь, Песах, — Роман с облегчением перешел на привычный для наших дискуссий тон. — При чем здесь часы, если программу видела половина Франции?
— Значит, она шла в записи, а прямой эфир — обман зрителя.
— Конечно.
— Что, к этому убийству оказалась причастна вся телевизионная группа? — удивился я, предвидя ответ.
— Нет, конечно, что ты себе вообразил? Они снимали программу заранее и предпочитали об этом помалкивать даже среди знакомых — ты же знаешь, как распространяются слухи и сплетни, а прямой эфир собирает гораздо большую аудиторию… Когда на студии появился инспектор Даскаль, продюсер программы и ему повесил на уши эту лапшу, он ведь не думал, что дело окажется серьезно. В тот же вечер противоречие было обнаружено, и мне о нем сообщили.
— А ты меня, конечно, проинформировать не мог, — сказал я с упреком, вспомнив, какую роль в моих рассуждениях сыграли две Айши Ступник.
— Во-первых, ты меня об этом больше не спрашивал, — рассудительно произнес Роман, — а во-вторых, какое это имело значение?
Он так и не понял! Интересно, как рассуждал он сам и как, в таком случае, пришел к правильному решению?
Видимо, я задал этот вопрос вслух, потому что Роман положил ногу на ногу, сложил на груди руки и приготовился к долгой, никем не прерываемой речи. Позу эту я хорошо знал, обычно я в таких случаях садился в угол дивана и брал в руки чашку с кофе. Здесь не было дивана, и я не думал, что Лея-Сара позволит мне сейчас пить кофе. Поэтому единственным знаком внимания, который мне удалось изобразить, стало сосредоточенное выражение лица. Должно быть, я перестарался, потому что Роман хмыкнул и заявил, что мне больше идет душевная расслабленность. Дожидаться моей реплики он не стал и приступил к рассказу.
* * *
— С самого начала было ясно, что единственным человеком, который мог, хотя бы в принципе, всадить шип под лопатку Айше Ступник, был некий Песах Амнуэль, сидевший с ней рядом. Инспектор Липкин был готов задержать тебя на сутки, а за это время получить ордер на арест по обвинению в убийстве. Я посоветовал Гаю отпустить тебя домой, поскольку так мне будет легче разобраться с мотивом убийства. Приватная обстановка, кофе, интимный разговор, Песах не обладает психологическим типом преступника, на официальных допросах может упереться, даже если это нелепо, и тогда из него не вытянуть никаких деталей… В общем, у меня была правильная аргументация, ты не находишь?
— И это была вся твоя аргументация? — обиженно спросил я. — Других слов ты не нашел?
— Других?
— Например, ты убежден в том, что подозреваемый Песах Амнуэль не может иметь к убийству никакого отношения.
— Я должен был так сказать только потому, что мы с тобой приятели, и я знаю тебя не один год? Согласись, это достаточное основание для обывателя, но не для…
— Конечно, дружба дружбой, а табачок врозь, — пробормотал я, и Роман изобразил на лице удивление: он плохо понимал идиоматические выражения, пришедшие из русского языка, можно было подумать, что родители его приехали в Израиль не из захолустного Полоцка, а из респектабельного Бостона.
— Продолжай, — буркнул я. — Но имей в виду: если ты еще раз придешь ко мне пить кофе, я подсыплю в него крысиную отраву.
— Итак — мотив, — сказал Роман, но я тут же прервал его вопросом:
— Не ты ли в тот злосчастный вечер утверждал, что никто не мог всадить Айше Ступник шип, в том числе и я, сидевший рядом с ней?
— Я утверждал это, основываясь на показаниях свидетелей. Но ты же знаешь, что такое свидетели… Могли они ошибиться?
— Нет, — отрезал я. — Есть еще один свидетель — я сам. И я тоже утверждаю, что, если и всаживал шип, то не под лопатку, а в шею. Я это помню и сейчас — совершенно отчетливо. В шею. И короткую стрижку помню.
— Вот как, — пробормотал Роман, внимательно глядя мне в глаза. — Доктор Михельсон утверждал, что внушенные воспоминания должны поблекнуть по мере выведения из организма всей это гадости…
— Твой Михельсон — шарлатан, — заявил я. — Кстати, как эта гадость называется?
— Не помню точно, в названии, по-моему, не меньше тридцати букв…
— Так вот, — продолжал я, — скажи Михельсону, этому шарлатану, что, несмотря на все его усилия, я прекрасно помню, как уколол Айшу в шею… То есть, я вспомнил это не сразу, я ужасно себя чувствовал в тот вечер, ты сам видел, как меня корчило, но тогда я еще ничего не помнил, а потом, когда отправился к экстрасенсу, и он что-то сделал с моим биополем, вот тогда я начал вспоминать, и теперь не забуду до конца своих дней, что бы со мной ни делал этот шарлатан Михельсон.
— Песах, — сказал Роман, — ты сегодня слишком многословен…
— Еще одно доказательство, что эта гадость… Ну хорошо. Если отбросить варианты, невозможные в принципе, остается принять вариант, просто невозможный… Вы с Липкиным рассудили, что чудес не бывает, и если никто, кроме меня не мог, то, значит, это сделал я, хотя я не мог тоже…



![Расследования Берковича 7 [сборник]](/storage/book-covers/03/0383a316dc5c525eb624f6e042ca718641bee739.jpg)