Рассказы - [7]
— Это Костяника-то? Проживает. Только не тут, а в лесхозе, — ответил пастушонок и показал мне к нему дорогу.
Лесхоз выглядел небольшим санаторием, — я видел однажды такой на Рижском взморье. Похожий чем-то на врача-практиканта, человек показал мне жилье Натальи Григорьевны — деревянный домик, стоявший особняком от поселка. Низенькие окна домика обливали вечер притушенным зеленоватым светом. То окно, что выходило прямо в лес, было открыто. Я подошел к нему и осторожно, как горящий факел, установил на подоконник свой букет.
Я узнал бы Костянику спустя сто восемьдесят лет, а не каких-то там восемнадцать. Она стояла на середине комнаты и со своей удивительной косинкой вглядывалась в меня, клоня голову набок, как застигнутая лучом фары ночная птица.
В комнате звучно цокали невидимые часы. На столе горела уютная керосиновая лампа в зеленом абажуре и стояла ваза с левкоями. Все здесь — задумчивый свет, гордая белая ваза, здоровый ток часов и то общее согласное настроение, в котором жили все предметы, населявшие комнату, говорило о какой-то чистой и праздничной торжественности.
Я дважды повторил свое имя, прежде чем Костяника узнала меня. Какую-то долгую секунду она глядела мне за спину — рассматривала, видно, рюкзак — потом спросила совершенно неожиданно:
— Куда это ты?
— Да вот пришел сюда, понимаешь… Просто пришел, — сказал я. В таких случаях люди против воли улыбаются почему-то жалко и просительно. Проделал это и я, и тогда Костяника торопливо сказала:
— Ну и хорошо, что пришел. Заходи к нам.
Букет свой я захватил с подоконника с собой, — ведь там его Костяника могла и не заметить.
Пол сеней и комнаты до такой степени был вымыт, что некрашеные доски казались восковыми и, между прочим, от них и пахло почему-то сотами. Я ступал по ним на носках своих пыльных ботинок, испытывая острое и странное желание пройтись по этой медвяной прохладе босиком.
Я сел у стола против белой вазы и внезапно разглядел густо-вороные ободки своих ногтей, заношенные обшлага куртки и далеко не новую, захоженную кепку. Я был уверен, что все это Костяника видит и осуждает, и оттого невпопад, с какой-то грустной и безотчетной обидой отвечал на ее вопросы, сам не спрашивая ни о чем. Наконец я взял со стола свой букет, загородив им пальцы, и сказал о ягодах:
— Посмотри. Они как запечатанные хрустальные бокальчики с вином. Правда?
— А ты все такой же, — усмехнулась Костяника.
— Какой?
— Радостный на слово.
Мне никогда и никто не говорил этого. Видно, я снова как-то неладно улыбнулся, потому что Костяника спросила тревожно и участливо:
— Неужели ты до сих пор одинок? Седеешь же!
— А ты?
Я спрашивал не о седине, но Костяника бережно провела ладонями по гладко зачесанным вискам и сказала мечтательно:
— Это я с войны еще…
Никто не знает, за что он любит или любим. Тот, кто долго живет с этой нелегкой радостью, на этот бедный вопрос отвечает бездумно, щедро и точно — за все!
Так мог бы сказать и я. Но я обязательно упомянул бы о ее взгляде — продолговатом, мило косящем, будто подстерегающем что-то хорошее и тайное. Этот взгляд у нее был «свой», с детства, но теперь я заметил в нем новое выражение — не то испуг и недоумение, не то призывное ожидание. Она все время словно прислушивалась, и не к нашей немногословной беседе, а к миру за окном, к его ночным звукам и шорохам. Я поглядел в окно. В пахучей тишине там текли пронизанные лунным светом сумерки, и вдруг явственно донесся свист иволги — сочный и манящий. Эта насмешливая, непотребно раскрашенная птица не поет по ночам, но я не ошибался, потому что Костяника тоже слышала этот свист.
Тогда и произошло то, что не следовало, возможно, мне видеть и знать. Костяника звонко засмеялась и порывисто кинулась из комнаты, прижав к подбородку ладони, как не осиливший радости ребенок. Иволга непутево просвистела уже под самым окном, а я ощутил разбег мурашек по телу, — все это показалось мне загадочным и жутковатым.
И все же я не пошел вслед за Костяникой. Я остался сидеть за столом, прислушиваясь к мужскому баритону за окном и ненавидя те внезапно возникающие паузы, когда он затихал, обрывая ее смех и голос. Там целовались.
А минут через десять я увидел Рогова. Он не вырос, но зато сильно раздался в плечах. И он был совершенно седой. В левой руке он держал небольшой лакированный чемодан, а правой обнимал Костянику, заглядывая ей в глаза. Я стоял за столом, сторожа его взгляд, чтобы поздороваться, но он меня не видел. Тогда я кашлянул. Рогов молча и как-то болезненно посмотрел на меня, затем на Костянику.
— Ой, я совсем забыла! Это Павел… Только что зашел к нам, — сказала она извиняюще и засмеялась чему-то.
— Павел? — спросил ее Рогов, будто меня и не было в комнате.
— Да. Ну тот… наш… помнишь?
— А-а! — вспомнил Рогов и тоже улыбнулся.
Я незаметно отодвинул за вазу свой костяничный букет. Его листья успели привять и сникнуть, но гроздья ягод по-прежнему мерцали свежо и жарко. Я понимал, что мне надо уйти, но как это достойно сделать — не знал, потому что они, эти двое, снова обо мне забыли. Они теснились возле чемодана, толкались и перемигивались, как дети, и Рогов в третий раз негромко объяснил, почему он задержался на десять дней, а не на семь, как предполагал: после совещания подводились итоги соревнования, и его лесхозу присуждена вторая областная премия.
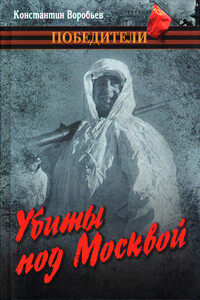
Повесть «Убиты под Москвой», прекрасного русского писателя-фронтовика Константина Дмитриевича Воробьева, посвящена событиям первых месяцев войны, и поражает воображение читателей жестокой «окопной» правдой, рассказывая о героизме и мужестве простых солдат и офицеров — вчерашних студентов и школьников.
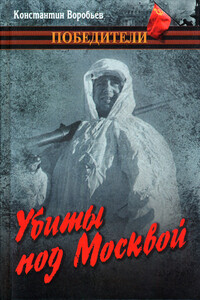
Посвященная событиям первых месяцев войны, повесть «Крик» поражает воображение читателей жестокой «окопной» правдой, рассказывая о героизме и мужестве простых солдат и офицеров — вчерашних студентов и школьников.

В книгу входят четыре повести о войне, авторов которых объединяет пристальное внимание к внутреннему миру молодого солдата, вчерашнего школьника, принявшего на себя все бремя ответственности за судьбу Родины.Содержание:Сергей Константинович Никитин: Падучая звезда Константин Дмитриевич Воробьев: Убиты под Москвой Вячеслав Леонидович Кондратьев: Сашка Константин Павлович Колесов: Самоходка номер 120.
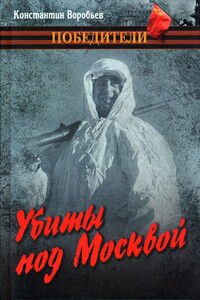
Повести Константина Воробьева можно назвать первой большой правдой о войне, которая прорвалась к нам через литературу. Повести Воробьева о войне написаны в традиции великой русской прозы XIX века, и страшной, неприкрашенной правдой они переворачивают душу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.
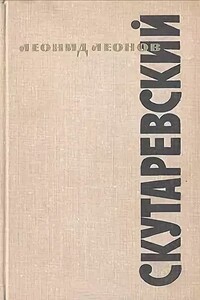
Известный роман выдающегося советского писателя Героя Социалистического Труда Леонида Максимовича Леонова «Скутаревский» проникнут драматизмом классовых столкновений, происходивших в нашей стране в конце 20-х — начале 30-х годов. Основа сюжета — идейное размежевание в среде старых ученых. Главный герой романа — профессор Скутаревский, энтузиаст науки, — ценой нелегких испытаний и личных потерь с честью выходит из сложного социально-психологического конфликта.
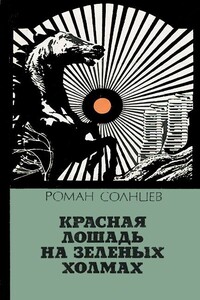
Герой повести Алмаз Шагидуллин приезжает из деревни на гигантскую стройку Каваз. О верности делу, которому отдают все силы Шагидуллин и его товарищи, о вхождении молодого человека в самостоятельную жизнь — вот о чем повествует в своем новом произведении красноярский поэт и прозаик Роман Солнцев.

Владимир Поляков — известный автор сатирических комедий, комедийных фильмов и пьес для театров, автор многих спектаклей Театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Им написано множество юмористических и сатирических рассказов и фельетонов, вышедших в его книгах «День открытых сердец», «Я иду на свидание», «Семь этажей без лифта» и др. Для его рассказов характерно сочетание юмора, сатиры и лирики.Новая книга «Моя сто девяностая школа» не совсем обычна для Полякова: в ней лирико-юмористические рассказы переплетаются с воспоминаниями детства, героями рассказов являются его товарищи по школьной скамье, а местом действия — сто девяностая школа, ныне сорок седьмая школа Ленинграда.Книга изобилует веселыми ситуациями, достоверными приметами быстротекущего, изменчивого времени.