Рассказы - [31]
Застыв у порога, я продолжаю следить за ним. Заговорить я не решаюсь неудача, постигшая мать, лишила меня смелости. Я только посылаю отцу свой взгляд — широко распахнутый, молящий — и терпеливо жду, когда же он на него ответит. Лицо его сейчас не строгое, а скорее задумчивое.
— Неужто ты не можешь пойти со своими дружками? — спрашивает он вдруг, полыхнув на меня синими | огоньками глаз.
— Да я… — лепечу я и, потупясь, умолкаю. Мать поднимает голову от работы:
— Знаешь ведь, что они ему не компания. Опять его поколотят…
Отец молчит, с непроницаемым видом он чистит шляпу. В кухне наступает тягостное молчание.
Немного погодя мать отсылает меня за дровами, и я радостно убегаю в надежде, что в мое отсутствие все обернется к лучшему: отец поддастся на уговоры, и когда я вернусь, он с улыбкой сделает мне знак — пошли, мол… Время тянется томительно долго, солнце совершает победоносное шествие по небосводу, взбираясь все выше и выше, и в его неомрачимом сиянии мне чудится сейчас некая издевка. Удастся ли мне вообще выбраться сегодня из дому? Не спеша брел я к кухне с охапкой дров, но у двери остановился как вкопанный.
— Меня в его годы самому господу богу не оторвать было от сверстников, — донесся до меня голос отца. — Держались ватагой и везде ходили вместе: и в школу, и в церковь… А твоего сыночка вечно за руку води?
— Сроду ты его не водил за руку, — терпеливо возражала мать. — Не было случая, чтобы ты куда взял его с собой. А нынче, один-разъединственный раз, мог бы и уступить, Йожи. Видишь ведь, как ему хочется с тобой пойти.
Отец что-то пробурчал, но я не разобрал ни слова.
— Сам виноват, — опять послышался материнский голос. — Надо было жениться смолоду, тогда и сын твой теперь был бы взрослым.
— Эк ты разговорилась! — вспылил отец.
— А что мне еще остается? Жаль, чай, мальчонку. Никуда не берешь его с собою, будто стыдишься… А ему, бедняге, такая радость была бы!
Я подождал немного, но разговор смолк; я вошел и сложил дрова у плиты. От волнения у меня даже в глазах зарябило.
Отец стоял посреди кухни, готовый уйти, взгляд его украдкой перебегал с меня на мать, лицо отражало мучительную внутреннюю борьбу. Наконец он отвернулся.
— Йожи! — окликнула его мать, теперь уже строго. Отец вздрогнул.
— Готов ты, что ли? — спросил он вдруг, недовольно меряя меня с головы до пят. Я уставился на него, ушам своим не веря. — Ну пошли, — хрипло пробормотал он, сдавшись, и направился к двери. Я рванулся за ним, подхваченный такой радостью, что даже забыл попрощаться с матерью. Столкнувшись, мы чуть не застряли в дверях, отец укоризненно насупился при виде этакого моего нетерпения, а я вконец оробел.
И все же мы вместе двинулись вниз по склону, к долине.
Путь был недолгий, и получаса не прошло, как мы добрались до окраины города. Пока мы держались тропки, я трусил позади отца, любуясь сверкающим блеском его сапог и стараясь ступать за ним след в след, и эта забава приводила меня в восторг. Однако когда мы спустились к проезжей дороге, я тотчас поравнялся с отцом и скакал вприпрыжку то по правую, то по левую руку от него. Ослепительное солнце вновь казалось мне прекрасным. Я снова чувствовал себя слитым воедино с этим лучезарно-дивным миром и, пожалуй, никогда еще не испытывал этого чувства с такой полнотой. Еще бы: ведь впервые воскресным утром я иду рядом с отцом в город. Животворный солнечный лик торжествующе улыбался, расплывшись во всю ширь безоблачных голубых небес, и горел, не щадя пыла-жара, словно подгулявший богатей. Округа благоговейно застыла в честь праздничного дня.
Я видел ликующие деревья, всходы, дороги, дома, людей, видел легкие облачка и птиц, проносящихся в поднебесье. Осиянный солнечным светом мир вокруг показался мне очистившимся, и сам я, точно утратив земное притяжение, готов был воспарить ввысь.
Отец раздумчиво, неспешно шагал обочиной, на глаза его падала тень от шляпы, и он посматривал по сторонам на молодую зелень кукурузы, на густеющие клеверные посевы. Один раз он даже задержался на краю поля и пробормотал:
— Хороша пшеница, черт побери!
— Отец, — заговорил я, набрав в грудь побольше воздуха, — Йошка Чере намедни гнался за Банди Калоци до самого дома, а Банди от школы далеко живет. Мать Банди увидала, как они за домом дерутся, подошла к ним да как…
— Что ты все по камням шлепаешь? — ни с того ни с сего окрысился на меня отец. — И так башмаков на тебя не напасешься. Перейди на мою сторону.
Я запнулся на полуслове. Послушавшись отцовского указа, перешел по правую сторону от него и упавшим голосом продолжал:
— Сперва она Йошке оплеуху закатила, а потом и Банди всыпала. Ну, Йошка и говорит Банди: я, мол, тебе это попомню. А с Банди один раз вышло так…
— Хватит языком молоть!
Я онемел, словно меня обухом по голове огрели, и боязливо покосился на отца. Лицо у него было неприветливое, усы торчком, брови опять нахмурены…
Я повесил голову, и мы в полном молчании продолжали путь. Городские дома постепенно приближались, и на дороге становилось все больше и больше людей, по-воскресному, празднично разодетых. У меня чуть не вырвалось: «А вон и Арато идут, всем семейством!» — но я вовремя осекся. Лишь у самого города в последней надежде я рискнул заговорить:
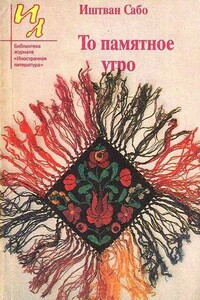
Можно попытаться найти утешение в мечтах, в мире фантазии — в особенности если начитался ковбойских романов и весь находишься под впечатлением необычайной ловкости и находчивости неуязвимого Джека из Аризоны.
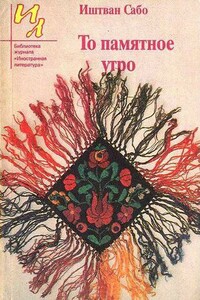
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
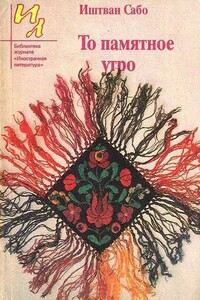
Страстное стремление трудиться до конца дней, не быть обузой близким, приносить пользу вызывает в читателе горячее сочувствие к героям И. Сабо — в особенности если старый, немощный человек сталкивается с бездушием, неприязнью окружающих, подобно старику из рассказа «В последний раз».
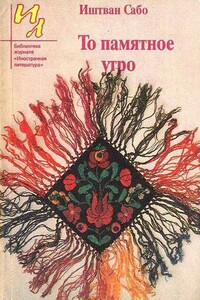
Нет смысла уноситься мечтами на Дикий Запад, если все твои желания связаны с родной венгерской действительностью. И на глазах у читателя совершается этот процесс познания: Янчи Чанаки высказывает свою заветную мечту…
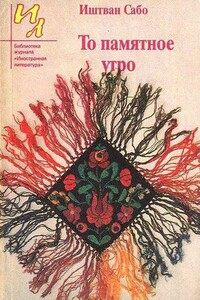
Среди рассказов Сабо несколько особняком стоит автобиографическая зарисовка «Мое первое сражение», в юмористических тонах изображающая первый литературный опыт автора. Однако за насмешливыми выпадами в адрес десятилетнего сочинителя отчетливо проглядывает творческое кредо зрелого писателя, выстрадавшего свои принципы долгими годами литературного труда.
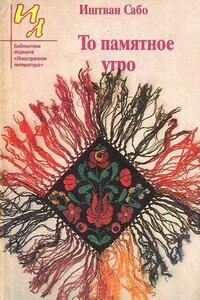
Замученная непосильной работой и лишениями крестьянка готова загнать себя в гроб, сколачивая гроши; веяние новых времен уже почувствовано ею, однако, верная своему стремлению к накопительству, она ухватывает из новой действительности лишь то, что отвечает исконной крестьянской психологии.

"Хроника времён неразумного социализма" – так автор обозначил жанр двух книг "Муравейник Russia". В книгах рассказывается о жизни провинциальной России. Даже московские главы прежде всего о лимитчиках, так и не прижившихся в Москве. Общежитие, барак, движущийся железнодорожный вагон, забегаловка – не только фон, место действия, но и смыслообразующие метафоры неразумно устроенной жизни. В книгах десятки, если не сотни персонажей, и каждый имеет свой характер, своё лицо. Две части хроник – "Общежитие" и "Парус" – два смысловых центра: обывательское болото и движение жизни вопреки всему.Содержит нецензурную брань.

Героиня романа Инна — умная, сильная, гордая и очень самостоятельная. Она, не задумываясь, бросила разбогатевшего мужа, когда он стал ей указывать, как жить, и укатила в Америку, где устроилась в библиотеку, возглавив отдел литературы на русском языке. А еще Инна занимается каратэ. Вот только на уборку дома времени нет, на личном фронте пока не везет, здание библиотеки того и гляди обрушится на головы читателей, а вдобавок Инна стала свидетельницей смерти человека, в результате случайно завладев секретной информацией, которую покойный пытался кому-то передать и которая интересует очень и очень многих… «Книга является яркой и самобытной попыткой иронического осмысления американской действительности, воспринятой глазами россиянки.

В романе Сэмми Гронеманна (1875–1952) «Хаос», впервые изданном в 1920 году, представлена широкая панорама жизни как местечковых евреев России, так и различных еврейских слоев Германии. Пронизанный лиризмом, тонкой иронией и гротеском, роман во многом является провидческим. Проза Гронеманна прекрасна. Она просто мастерски передает трагедию еврейского народа в образе главного героя романа.Süddeutsche Zeitung Почти невозможно себе представить, как все выглядело тогда, еще до Холокоста, как протекали будни иудеев из России, заселивших городские трущобы, и мешумедов, дорвавшихся до престижных кварталов Тиргартена.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
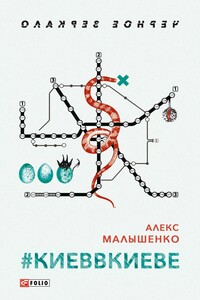
Считается, что первыми киевскими стартаперами были Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь. Они запустили тестовую версию города, позже назвав его в честь старшего из них. Но существует альтернативная версия, где идеологом проекта выступил святой Андрей. Он пришёл на одну из киевских гор, поставил там крест и заповедал сотворить на этом месте что-то великое. Так и случилось: сегодня в честь Андрея назвали целый теплоход, где можно отгулять свадьбу, и упомянули в знаменитой песне.