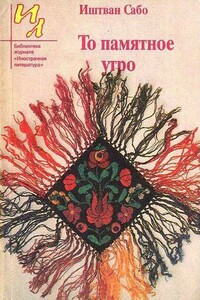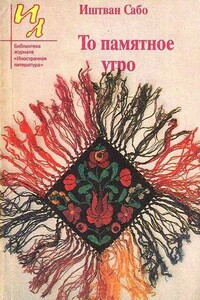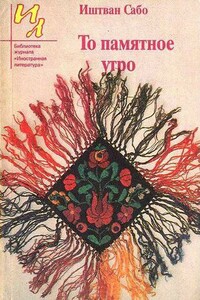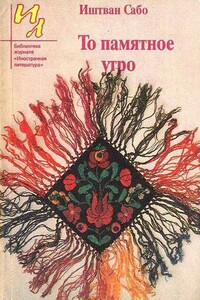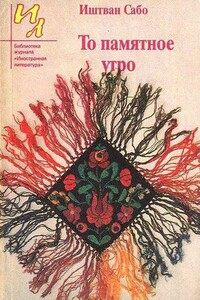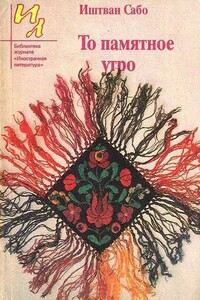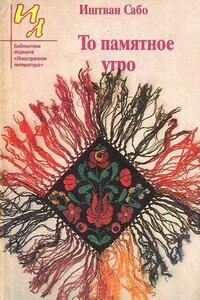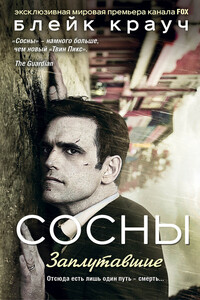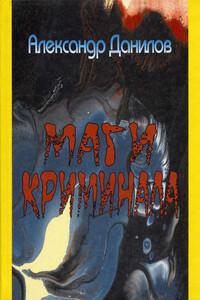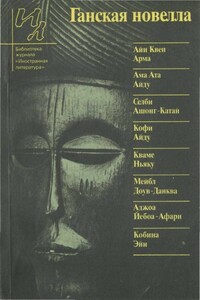Жили мы на покрытой виноградниками горе и по воскресеньям ходили с матерью слушать обедню в город, потому как стоявшая на самом гребне горы старинная часовенка вот уже несколько лет бездействовала и теперь пребывала в запустении. Обычно сразу же после завтрака мать облачала меня в парадную одежку, и пока она наводила порядок в кухне, я околачивался возле дома, ожидая, когда она соберется.
Однако в это воскресенье я лишь по привычке надел свой синий праздничный костюмчик. Матери пришлось остаться дома: к нам должна была приехать из Шомодя моя тетка. Спозаранку в доме шла уборка, затем мать принялась за стряпню, пекла, жарила-парила, как на свадьбу, так что о совместном нашем выходе в город и речи быть не могло. Я заранее примирился с этим, но привычный порядок воскресного дня был нарушен, и это огорчало меня. Неизвестно, с кем я пойду к обедне и вообще пойду ли. А если останусь дома, то чем мне занять себя в долгие утренние часы, пока не приедет тетка?
Отец по воскресеньям тоже наведывался в город, но он уходил из дому раньше и всегда один; мне запомнилась его долговязая фигура, когда он, облаченный в черный парадный костюм, один как перст брел среди невысоких кустов винограда, спускаясь в долину. Задумчиво смотрел я ему вслед, угадывая какую-то тайну в том, что отец проводит воскресенье в одиночку, никогда не берет меня с собою.
Как неприкаянный слонялся я вокруг дома, не зная, чем бы заняться, а потом побрел к двери на кухню, остановился у порога и, прислонясь к притолоке, выжидательно уставился на мать.
Отец тоже сидел на кухне, он уже успел надеть праздничные черные штаны и теперь обматывал ноги чистыми портянками. Он проделал эту процедуру с большим тщанием, а затем аккуратно расправил ткань, чтобы не было ни морщиночки. Мать подала ему черные, начищенные до блеска сапоги и, чуть поколебавшись, обратилась к нему:
— Йожи!
Отец ухватил сапоги за ушки и с сосредоточенным видом сунул ноги в голенища.
— Йожи, возьми с собой мальчонку.
Отец, кряхтя и покраснев от натуги, втиснул пятку на место и взялся за другой сапог. На мать он и не взглянул, его рыжеватые с проседью усы стали торчком.
— Слышишь, что говорю? Пускай он пойдет с тобой. Ты же знаешь, что нынче мне дома придется остаться.
Я, застыв у порога, с опаской посматривал на странно торчащие усы отца, на его безмолвно-отчужденное лицо и от волнения даже дышать перестал. Но он не смотрел на нас; пошевелил пальцами, чтобы проверить, не трут ли где сапоги, и недовольно пробурчал:
— Надо было набить сапоги бумагой, Анна.
Мой выжидающе-просительный взгляд встретился с неуверенным материнским. Заметив мою немую мольбу, она приободрилась и снова обратилась к отцу:
— Слышь, что говорю, Йожи? — Теперь ее голос звучал совсем не твердо.
А он, как будто только сейчас пришел в себя после нелегкой возни с сапогами, по очереди оглядел нас; но лицо его было строгим и отчужденным. Он тут же отвел глаза, а усы его топорщились по-прежнему сердито. Мать с тоской обласкала меня взглядом и — словно обессилев от моего молчаливого отчаяния опустилась на табурет и принялась чистить овощи. Отец прошел в комнату. И я знал, что сейчас он напяливает белую воскресную рубаху, затем облачается в черный пиджак. Наконец, тщательно причесанный, снова появится в дверях, щеткой стряхивая со шляпы пыль, которая скопилась на ней за неделю праздного висения на вешалке.
Застыв у порога, я продолжаю следить за ним. Заговорить я не решаюсь неудача, постигшая мать, лишила меня смелости. Я только посылаю отцу свой взгляд — широко распахнутый, молящий — и терпеливо жду, когда же он на него ответит. Лицо его сейчас не строгое, а скорее задумчивое.
— Неужто ты не можешь пойти со своими дружками? — спрашивает он вдруг, полыхнув на меня синими огоньками глаз.
— Да я… — лепечу я и, потупясь, умолкаю. Мать поднимает голову от работы:
— Знаешь ведь, что они ему не компания. Опять его поколотят…
Отец молчит, с непроницаемым видом он чистит шляпу. В кухне наступает тягостное молчание.
Немного погодя мать отсылает меня за дровами, и я радостно убегаю в надежде, что в мое отсутствие все обернется к лучшему: отец поддастся на уговоры, и когда я вернусь, он с улыбкой сделает мне знак — пошли, мол… Время тянется томительно долго, солнце совершает победоносное шествие по небосводу, взбираясь все выше и выше, и в его неомрачимом сиянии мне чудится сейчас некая издевка. Удастся ли мне вообще выбраться сегодня из дому? Не спеша брел я к кухне с охапкой дров, но у двери остановился как вкопанный.
— Меня в его годы самому господу богу не оторвать было от сверстников, — донесся до меня голос отца. — Держались ватагой и везде ходили вместе: и в школу, и в церковь… А твоего сыночка вечно за руку води?
— Сроду ты его не водил за руку, — терпеливо возражала мать. — Не было случая, чтобы ты куда взял его с собой. А нынче, один-разъединственный раз, мог бы и уступить, Йожи. Видишь ведь, как ему хочется с тобой пойти.
Отец что-то пробурчал, но я не разобрал ни слова.
— Сам виноват, — опять послышался материнский голос. — Надо было жениться смолоду, тогда и сын твой теперь был бы взрослым.