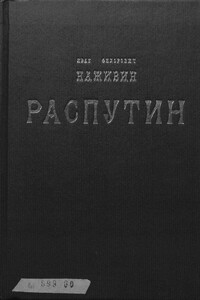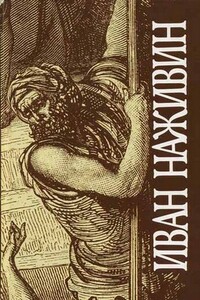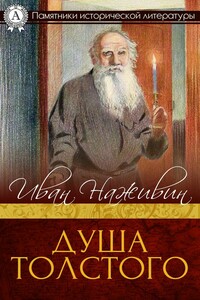Как раз над нами, на горе, поместье какое-то барское было, — дай, думаю, посмотрю, от нечего делать, как люди живут. Взобрался, я как-то вечерком туда, на обрыв этот самый, сижу там, покуриваю, вдруг слышу — шаги… Что такое? Оглянулся — так у меня сердце и покатилось! Видывал я баб немало, ну, а такой еще не приходилось, глаза лопни! Догадался, что барыня здешняя, помещица. Ну, сижу это, притих, и гляжу на нее… А кусты тут густые-прегустые были, орешник, калина, дубняк, ей меня и не видно. Ну, стоит и на Волгу смотрит… Сама вся в белом, а сзади нее солнце садится, — так она вся на заре-то и горит. Стройная эдакая, легкая, грудь высокая, глазищи большущие, черные и волос, что твое вороново крыло… В руках книжка… Лавченочка тут небольшая, над обрывом стояла, — села она и все на реку глядит, любуется. И вижу, на лице эдакое облако точно, словно не в духе она… Посидела, посидела, потом вздохнула эдак легонько да и пошла себе домой…
И с самого этого вечера меня и забрало, братец ты мой, да ведь как! Куды ни пойду, что ни делаю — везде она… И знаю, что канитель одна — где нам до эдаких-то? — а нет, не могу с собой совладать, хоть ты что… Пришел это вечер, я опять туда, дескать, хоть глазком одним взгляну. Ну, пришла, поглядела на реку минутку да и назад… А лицо эдакое сурьезное все, — что-нибудь неладно у нее, думаю… Еще больше разгорелся я, просто места себе не нахожу!.. Эх, и баба же, черт бы ее побрал совсем! Ну, понимаешь, всю землю обойди, другой такой не сыщешь… Королева!.. Сердце у меня так и рвет, так и мечет… И обиды, обиды там — всей Волгой не вымоешь! Прячься по кустам, как леший какой, и выглянуть не смей — да что я не человек, что ли? Всю ночь не спал… Чую, сердце ходу просит, опять скопление паров в нем делается… А тут еще дождь ударил, не выходила она дня три, четыре что-то… Ну, просто хоть на стену… А механик наш все не едет… Наконец, разведрилось… Чуть вечер, — а ясно так было, тепло, дух это от деревьев да от травы, — чуть вечер, я туда. Крадусь это легонько кустами-то, вдруг — она!.. Стоит на дорожке и на меня смотрит!.. Я так и обмер, — вот что значит она, настоящая баба-то!..
— Что ты тут делаешь? — спрашивает, и брови нахмурила.
— Гуляю, — говорю.
— Кто же так гуляет? — говорит. — Что ты прячешься?
Ну, думаю, попал голубчик. Однако справился…
— Вас боялся потревожить, — говорю.
— А почему ты знал, что я тут?
— Видел, — говорю, — сидели вы тут, ну и остерегался.
Посмотрела эдак боком, точно не верит…
— Ты, что же, здешний?
— Нет, — говорю, — с барки вон той, водолив… Поломка в пароходе вышла и стоим…
Ушла… Пошел и я к себе на барку, и еще пуще мне свет не мил стал — потому обидно, что оробел я пред ней. Что, боюсь я, что ли, чего? Нет, ничего… А оробел. Что она мне? Так с души и воротит, самому себе в рыло наплевать хочется…
Ну, черт с тобой, думаю, ладно, покажу же я себя!.. Самому на себя плевать нечего — что я не вольная птица, что ли? И смелости вдруг во мне открылось просто до бесконечности… Ну, а как пожалуйте на вынос, думаю, — тогда что? Потому чувствую, жить без нее не могу, точно околдовала она меня, проклятая. И такая на меня опять хмурость да тоска нашла, просто хоть на осину. Это всегда так с человеком бывает, когда он не знает, куда ему идти… А не знает потому, что привязанности в нем много, сам себе дорогу загородил…
И так вот протерзался я день, два… Наш механик приехал, да что-то не по мерке там отлили, не годится штука-то… Хозяину депешу послали, чтобы другой пароход выслал… А он отвечает: все в разгоне, чинитесь, как знаете… И идет эта самая канитель, а мне просто сил нет. Потом, была не была, повидалася, думаю, и — пошел. Пришел и сел, да не за куст, а на самую, что ни на есть середину лавки — на, дескать, выкуси!..
Слышу, идет… Так у меня внутри все и задрожало, совладать с собой не могу, то ли от радости, то ли от злости… Увидала меня, нахмурилась.
— Чего ты тут все шляешься? — говорит.
— Извините, пожалуйста, сударыня… — говорю. — Я, дескать, не знал, что мешаю вам… Если мое присутствие, дескать, стесняет вас, я больше не приду…
Покраснела легонько.
— Кто вы такой? — спрашивает.
— Я, — говорю, — имел уже честь доложить вам, что я водолив, сударыня, — вон с той барки…
Глядит с удивлением эдак.
— Что это, — спрашивает, — святки, что ли, у вас?
— Нет, — говорю, — я в своем собственном виде, сударыня. А что ежели я и по-человечьи говорить, умею да хвостиком не виляю, так это потому, что потерся-таки я на людях маленько да и… в книжках-то, как и вы, читывал — хоть немного, а читывал…
Вижу смекает маленько и любопытно ей все это очень.
— А теперь что же, бросили?
— Бросил, — говорю.
— Почему?
— А потому, — говорю, — что ерунда одна… Один говорит одно, другой — другое, третий — третье и все врут… Жизнь есть и живи…
— А как жить? — говорит. — Книги-то вот и научат…
— Нет, — говорю, — они только с толку сбивают, все в разные стороны тянут. Наплюй на них да и живи, как Бог на душу положит…
Гляжу, покосилась на скамейку, а не садится, потому, понимаешь, сесть одной, как быдто, конфузно, а меня посадить рядом — и того хуже… Потом, вижу, усмешечка эдакая по лицу пробежала…