Рассказы и повести - [15]
— И ты, брат, не слушай таких ворон… — продолжал матрос, обращаясь к Василью. — Полный ход давай сердцу, волю…
— И попадешь в неволю… — сказал старик.
— Ну, и держи твое на бечевочке, — отвечал матрос, — а то так вот хоть этим канатом привяжи его. А других не замай, пусть потешаются… Нашел королеву и валяй… Отводи душу… Не из бараньего стада, видно, не бякает…
Он помолчал.
— Вот и у меня одна такая-то была… — проговорил он тихо и мечтательно, вспоминая. — Эх, уж и баба… Душу всю вынула…
Он опять закурил.
— Куда же ты девал ее, такое сокровище? — спросил старик. — Где ж она?
— Не знаю… — отвечал матрос.
— Ну? — произнес вопросительно Василий.
— Чего: ну?.. Рассказать что ли?.. Эх, вспомнишь, так сердце ноет… Годов… да десять, поди, прошло, а она вот, как живая, стоит, дьявол… На Волге дело это было… Стоп! Задний ход!.. — прервал вдруг себя матрос и осклабился, сверкнув своими белыми, крепкими зубами. — А ты оскоромиться, старина, не боишься? Петровки-то прошли уж… Поди, баба-то тебе, что черту ладан?..
— Рассказывай, рассказывай, милый человек… — отвечал старовер. — Я не из пугливых.
— О?.. Ну, коли так, слушай… — сказал матрос и, усевшись поудобнее на канате, начал, задумчиво глядя на льющееся серебро Шексны: — На Волге то дело было… Попал я туда не то, чтобы по своей охоте, ну, да не совсем и поневоле. Дело вышло так. Рожден я бысть и воскорми мя мати моя в первопрестольном граде Москве, где мой папаша кадилом кадил и паки и паки говорил, — жеребячьей породы я, дьякона сын… Ну, подрос я — в духовное училище, а потом и в семинарию пожалуйте, премудрости всей этой Соломоновой обучаться… Уговаривали было отца пустить меня по ученой части, скрозь гимназию да в университет, — однако, тот не пожелал, потому напуган очень был: старший брат мой пошел по этой дорожке да из университета-то прямым сообщением, без пересадки, за бугры и угодил. Отец и боялся: и тебя сгубят эдак, говорит… Ну, и пустил по духовной премудрости… И с самого начала премудрость эта мне не по скусу пришлась. Однако учись, говорят, потому жрать надо. И учился, — через пень колоду… И чем больше в разум вхожу, тем тошнее мне эта самая наука их, просто невмоготу… Бякать учат, а я не из бякал… Ну, да что тут бобы-то разводить? Терпел я, терпел, потом вдруг бац, прорвало: по уху ректору заехал. Сейчас меня, раба Божьего, за ушко да на солнышко; иди, добрый молодец, на все четыре стороны!.. Ну, вернулся домой, к отцу, — там все в рев! Лучше бы, вишь, помер я, легче бы им было, а то куды, дескать, теперь ты денешься, пропащая твоя головушка? Хоть у отца кое-какие деньжонки и были, ну, а без дела все-таки, сам понимаешь, сидеть не полагается… Ну, кое-как чрез отцовых приятелей у купца краснорядца я пристроился, — вроде как быдто эдакого глаза, наблюдать, чтобы приказчики не очень в хозяйский карман смотрели… Однако и это пришлось не по скусу. Недолго просидел я тут да и… ну, да чего тут канитель-то тянуть?.. Всего я попробовал, всякие места пытал, пока на свое место, во вшивую команду не попал. Тут уж мне все по душе пришлось, потому воля, сам по себе, царствуй на страх врагам, сколько влезет. А воля это для человека главное. Гляди, брат, как бывает на свете: сын дьякона и вдруг душа зимогора… Н-ну, и зажил я — куда хочу, туда лечу… И на душе легкость, просто как на крыльях… Другие из нашего брата, зимогора, злы бывают, скулить любят, а у меня не то, — одно слово, как рыба в воде… Однако, недолго процарствовал я эдак, — с год, должно, — и опять в папашины лапы попался. Разыскал он меня в Рыбинске, на Вшивой Горке, мать привез, плачут оба, Христом Богом молят, не губи, дескать, себя, пожалей нас, стариков… Да чего, говорю, не губи? Больно мне хорошо тут… Нет, хоть ты что!.. Это, говорят, юность все, сил воскипение, это пройдет и все будет по-хорошему… А потом, дескать, мы женим тебя — эва как! — и будешь ты… Ну, одно слово, слушай да облизывайся!.. Ты, говорит, хоть попробуй только, потешь нас… Ну, что же, попробовать можно, отчего не попробовать? Сдал я им на этот раз… Увезли они меня это домой опять, приумыли, приодели, все, как следует, место давай мне искать, устроить все хотят… Зря, говорю, сбегу. А они опять за свое: попробуй… Н-ну, дома-то меня больно хорошо все знали, какого я поля ягода, и пристроить меня было трудно. И попал я чрез одного благодетеля, — у попов везде благодетели есть, — в одно имение на Волгу, на верхний плес, вроде эдак помощника управляющего, что ли… Жалованье положили, как следует, и все такое… Приехал я и начал делами ворочать, — надо старикам удружить…
Весна была, самый развал… Ворочаю я это делами-то, а в душе, чувствую, посасывать начинает, на волю опять тянет. Выйдешь, бывало, вечером на Волгу и сидишь. Привольное место такое было, ширь, простор. Леса это кругом синие, а внизу Волга… Пароходы по ней бегут, караваны тянутся. Глядишь на них, а сердце ноет, сосет тоска его, — так бы вот и бросился за ними… Ну, сам посуди, что это за жизнь? Поскрипел пером, с мужиками поругался, нажрался да спать, а потом опять скрипеть… Индо жиреть стал… Как мне такую жизнь вынести, коли вот в матросы попал, так и то тяжело? Связан, а это мне хуже всего… И брошу, ну их к лешему в болото, и с пароходом-то их… А тогда и того хуже… Ну, дух-то и сперся внутри… Эдак вот с ребятами бывает: сидит-сидит да ни с того, ни с сего как заорет, али по траве кубарем, али в ухо какому приятелю, так, здорово живешь, заедет. Потому духу в нем много сопрется, ну, он ходу и просит… А какой в ем и дух-то еще — так, близир, один, — а даст раза, глядишь, и полегчает… Так и со мной было — раза тоже дать опять охота была, — да… Крепился, крепился я, — нет, вижу, толку нет!.. Да главное, и зря: крепись аль не крепись, все на тоже выйдет. Ну, взял я это листик бумажки и — милые родители, дескать, благодарю вас за любовь да за заботу вашу, но только адью, мне это не подходит, и все там, как нужно… Потом собрал свое лопотьишко да и ходом, на простор… Покружился по Волге, туды, сюды, спустил для легкости все, что было, и сразу точно совсем другой человек сделался. Ну, и попал я о ту пору в Козьмодемьянск, а там лесная ярмарка как раз идет. Эх, вот где жизнь-то!.. Народу на реке, и на плотах, просто как блох в хорошем тулупе, так и кишит; песня это идет, да все с присвистом, с гиком, — отдирай, примерзло!.. Девки, бабы — все тут… Приедет хозяин на плоты, сейчас ему уру и на водку пожалуйте… И пошла писать!.. Веселая жизнь!.. Ну, значит, и я с ними барки грузить давай. Отгрузились это, ярмарка кончилась, — надо дальше, к Нижнему. Ну, и нанялся я водоливом на барку с брусом; до Нижнего, думаю, доплыву, а там видно будет… Ладно… Прибежал это пароходишка сверху, зацепил нас, здоровенные четыре баржищи, — фык-фык, а ни с места. Задору-то много, а силы, вот как в старовере, на грош нет. Потом справился кое-как, потащил. Недолго наплавали мы, однако, с ним и вовсе стали: машина что-то поломалась. Ну, подчалились кое-как к берегу, чтобы другим не мешать, стоим. Механика в Нижний отправили с поломанной частью, другую чтобы отлить… День проходит, другой, а мы стоим… Скука смертная, потому дела никакого, жри да спи… И компании никакой… Только и утешения, бывало, слезешь на берег да и слоняешься по горам, а то на горячий песок на берегу брюхом ляжешь и смотришь, как караваны идут, пересвистываются… Я уж думал было наплевать на все да махнуть в Нижний, — ан вот тут зацепка-то эта самая и вышла…

Роман "Казаки" известного писателя-историка Ивана Наживина (1874-1940) посвящен одному из самых крупных и кровавых восстаний против власти в истории России - Крестьянской войне 1670-1671 годов, которую возглавил лихой казачий атаман Степан Разин, чье имя вошло в легенды.
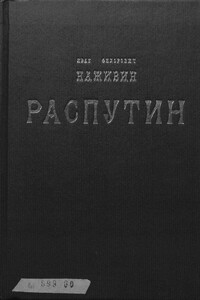
Впервые в России печатается роман русского писателя-эмигранта Ивана Федоровича Наживина (1874–1940), который после публикации в Берлине в 1923 году и перевода на английский, немецкий и чешский языки был необычайно популярен в Европе и Америке и заслужил высокую оценку таких известных писателей, как Томас Манн и Сельма Лагерлеф.Роман об одной из самых загадочных личностей начала XX в. — Григории Распутине.
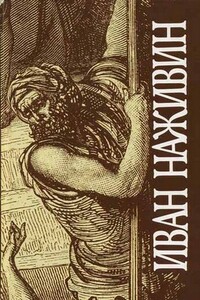
Иван Фёдорович Наживин (1874—1940) — один из интереснейших писателей нашего века. Начав с «толстовства», на собственном опыте испытал «свободу, равенство и братство», вкусил плодов той бури, в подготовке которой принимал участие, видел «правду» белых и красных, в эмиграции создал целый ряд исторических романов, пытаясь осмыслить истоки увиденного им воочию.Во второй том вошли романы «Иудей» и «Глаголют стяги».Исторический роман X века.

К 180-летию трагической гибели величайшего русского поэта А.С. Пушкина издательство «Вече» приурочивает выпуск серии «Пушкинская библиотека», в которую войдут яркие книги о жизненном пути и творческом подвиге поэта, прежде всего романы и биографические повествования. Некоторые из них были написаны еще до революции, другие созданы авторами в эмиграции, третьи – совсем недавно. Серию открывает двухтомное сочинение известного русского писателя-эмигранта Ивана Федоровича Наживина (1874–1940). Роман рассказывает о зрелых годах жизни Пушкина – от Михайловской ссылки до трагической гибели на дуэли.
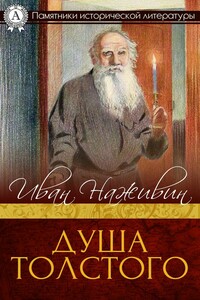
«Душа Толстого» — биографическая повесть русского писателя и сподвижника Л. Н. Толстого Ивана Федоровича Наживина (1874–1940). Близко знакомый с великим писателем, Наживин рассказывает о попытках составить биографию гения русской литературы, не прибегая к излишнему пафосу и высокопарным выражениям. Для автора как сторонника этических взглядов Л. Н. Толстого неприемлемо отзываться о классике в отвлеченных тонах — его творческий путь должен быть показан правдиво, со взлетами и падениями, из которых и состоит жизнь…

Покорив Россию, азиатские орды вторгаются на Европу, уничтожая города и обращая население в рабов. Захватчикам противостоят лишь горстки бессильных партизан…Фантастическая и монархическая антиутопия «Круги времен» видного русского беллетриста И. Ф. Наживина (1874–1940) напоминает о страхах «панмонгольского» нашествия, охвативших Европу в конце XIX-начале ХХ вв. Повесть была создана писателем в эмиграции на рубеже 1920-х годов и переиздается впервые. В приложении — рецензия Ф. Иванова (1922).

Соседка по пансиону в Каннах сидела всегда за отдельным столиком и была неизменно сосредоточена, даже мрачна. После утреннего кофе она уходила и возвращалась к вечеру.

Алексей Алексеевич Луговой (настоящая фамилия Тихонов; 1853–1914) — русский прозаик, драматург, поэт.Повесть «Девичье поле», 1909 г.

«Лейкин принадлежит к числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни… Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели беллетристическую ценность…»М. Е. Салтыков-Щедрин.

«Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал…».

