Рафаэль и его соседки - [10]
Песня удалась на славу и произвела желаемое воздействие: Рафаэль назвал нас соловьями — мол, он слышал наше пение, но не видел, как мы работали ночью. Он позволил девушке надеть на себя венок и расцеловал всех, хотя Гита едва могла скрыть свою досаду. Чтобы утешить ее, я вплел в ее волосы самый роскошный букет цветов, который когда-либо был составлен. Это ее развеселило, и она устроила народный танец, который исполняла с необычным изяществом, с легкостью, будто она на наших глазах сбросила с себя лет двадцать, что же и говорить о глазах Рафаэля, какой должен был он увидеть ее сквозь заколдованные очки? Одна из моих любимых кузин, которая занималась гаданием, выступила вперед, попросила уставших от танца протянуть ей руки и стала читать по ним и предсказала, что Гита умрет в большой набожности, а Рафаэль — с седыми волосами, окруженный своими детьми. Рафаэль при этом покачал головой: он всегда торопился со своими работами, так как боялся умереть, не доведя их до конца, хотя он опасался не какой-нибудь болезни, но угасания небесного огня под гнетом земных забот. С чего бы взяться такой тревоге? Возможно оттого, что его образ жизни вовсе не соответствовал требованиям того небесного огня и любое напоминание об этом печалило его. Подобные мысли не омрачали Гиту, о будущем она думала не больше, чем люди перед грехопадением, она протягивала свою руку не для гадания, а за бокалом вина. Рафаэль радовался ее жажде жизни, он приказал принести лучшие вина, и так наше торжественное собрание закончилось дикой вакханалией — Гита забралась верхом на Джулио, и он катал ее по саду — так они изображали кентавра. «Это милые дети, — сказал Рафаэль, — если им не перечить. Художник смотрит на мир особым взором, подмечая то, что можно потом нарисовать, и теперь я убедился: любое событие должно сначала по-настоящему произойти в мире, чтобы потом стать картиной, чьей-то выдумкой. Если бы я не видел этого шествия, я не смог бы выдумать вакханалию. Дай мне угля: стена сада должна сохранить память об этом, но не копировать то, что мы видели сейчас».
Спустя какое-то время, думаю я, Рафаэль захотел отыграться за наш праздник в саду, поскольку на стене спальни — а она была обделана новыми досками — тайно, когда никто не видел его за работой, появлялись новые картины, которые, несомненно, вышли из-под его кисти, хотя подобные сюжеты были для него нехарактерны. Я ни слова не говорил об этом, напротив, делал вид, что ничего не замечаю. Но однажды утром я застал Рафаэля в непривычно раннее время перед этими картинами в удивлении, как будто он видел их в первый раз, он лишь качал головой и потирал лоб. Завидев меня, он восклицает: «Есть второй Рафаэль, подумай только, обезьяна рисует! Посмотри внимательнее, я сам бы принял это за свою работу, если бы не знал, что не сделал ни мазка, а Гита поймала его с поличным. Посмотри, тут хорошо все, кроме самого главного. Здесь ты четко можешь видеть, в чем отличие звериной натуры: она здесь становится единственной сущностью, а все духовное — блеском и иллюзией, это очень трагические картины и их можно назвать почти продолжением моей Психеи, после того как она навсегда соединилась с крылатым богом».
Я не знал, что думать и что сказать. Я был убежден в том, что обезьяна не могла так рисовать, но никто другой не мог так рисовать кроме Рафаэля, а Рафаэль не принял бы всерьез упреков, если бы сюжет не понравился некоторым людям, и уж тем более не стал бы из-за этого сочинять небылицы о возникновении этих настенных картин. Нашему Джулио такие проделки были не чужды, но он не мог создать такой линии, такого цвета. Раньше для меня все было объяснимо, а теперь я стоял перед замурованными воротами и нигде не мог найти выхода. Время покажет, подумал я и не заботился более о таких тайнах, поскольку Рафаэль направлял всю мою фантазию на то, чтобы ежедневно устраивать новый праздник для своей возлюбленной. Это беспокойство, казалось, причиняло вред его здоровью; но он утешал меня предсказанием, которое я сам ему привел, — надеялся на детей и седые волосы и говорил, что причина его усталости — нудная писанина и обременительные счета, которые он должен был сам просматривать по вечерам из-за переносящегося строительства церкви Петра, хотя обычно этим занимались подмастерья. Счета, торговлю и прочие дела, которые для меня были игрою, он не перекладывал на меня в этот раз из-за ответственности перед церковью, хотя ему это было очень тяжело, а свои собственные деньги он с легким сердцем доверял мне. Таланты-то у всех разные! Самый трудный рисунок не стоил ему стольких усилий, как складывание длинной колонки цифр, и этим мы, люди незнаменитые, можем утешиться, ведь у нас есть свои достоинства и дарования. Рафаэль сидел, слепой и потерянный, за своими бумагами или искал среди старых обломков мрамора, вырытых для строительства, достойные внимания скульптуры, а Гита за его спиной тем временем флиртовала с Джулио, его любимым учеником, или слушала дьявольские выдумки Пьетро Аретино, на совести которого, собственно, было развращение Джулио, — именно он подбивал его увековечивать кистью каждую дерзкую шутку, приходящую кому-нибудь в голову. Этот Аретино не стеснялся высмеивать лучшие работы Рафаэля, а Рафаэль улыбался и не говорил ничего, кроме: «Таковы поэты, они открывают рот, чтобы сказать все, что дьявол шепнул им на ухо». Потом он спокойно работал дальше, как будто ничего не слышал, но утверждал, что ему полезнее слышать такие упреки, чем хвалу всего мира. Но он был чересчур дотошным и всегда находил какой-нибудь неверный штрих, например, где ржавчина чуть тронула стальной клинок.

Молодой наследник майоратного особняка вернулся в родной город. Питая отвращение к фамильному владению, он поселился в доме дальнего родственника. Юноша оказался духовидцем, глубоко проникшим в мир духов, и, наблюдая за молоденькой соседкой-еврейкой, видел гораздо больше, чем доступно глазам смертных…

В сборник крупнейшего словацкого писателя-реалиста Иозефа Грегора-Тайовского вошли рассказы 1890–1918 годов о крестьянской жизни, бесправии народа и несправедливости общественного устройства.
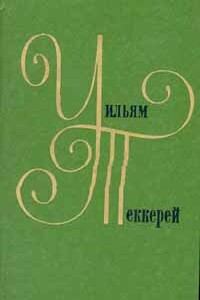
Что нужно для того, чтобы сделать быструю карьеру и приобрести себе вес в обществе? Совсем немногое: в нужное время и в нужном месте у намекнуть о своем знатном родственнике, показав предмет его милости к вам. Как раз это и произошло с героем повести, хотя сам он и не помышлял поначалу об этом. .
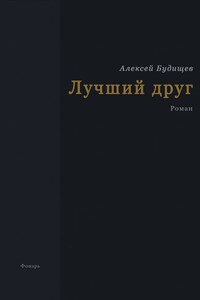
Алексей Николаевич Будищев (1867-1916) — русский писатель, поэт, драматург, публицист. Роман «Лучший друг». 1901 г. Электронная версия книги подготовлена журналом Фонарь.

«Анекдоты о императоре Павле Первом, самодержце Всероссийском» — книга Евдокима Тыртова, в которой собраны воспоминания современников русского императора о некоторых эпизодах его жизни. Автор указывает, что использовал сочинения иностранных и русских писателей, в которых был изображен Павел Первый, с тем, чтобы собрать воедино все исторические свидетельства об этом великом человеке. В начале книги Тыртов прославляет монархию как единственно верный способ государственного устройства. Далее идет краткий портрет русского самодержца.

В однотомник выдающегося венгерского прозаика Л. Надя (1883—1954) входят роман «Ученик», написанный во время войны и опубликованный в 1945 году, — произведение, пронизанное острой социальной критикой и в значительной мере автобиографическое, как и «Дневник из подвала», относящийся к периоду освобождения Венгрии от фашизма, а также лучшие новеллы.

Жил на свете дурной мальчик, которого звали Джим. С ним все происходило не так, как обычно происходит с дурными мальчиками в книжках для воскресных школ. Джим этот был словно заговоренный, — только так и можно объяснить то, что ему все сходило с рук.