«Пятьсот-веселый» - [4]
— Гребли по-черному, — выделяется голос рыбака в громком пьяном разговоре, когда говорят уже все разом и никто не слушает другого, а только стремится высказать свое. — Скумбрия шла-а! Заколачивали на пай по две четыреста. С нашим капитаном в пролове не бывали. Океан знает, как свой огород. Но вот на этот раз — прогорели.
Стук колес то заглушает, то вновь проясняет разговор, но я и без того не слушаю, я уже там, в сорок третьем. «Не умирай, Валька!» — доносит из далекого, страшно далекого времени. Кто это кричит? Неужели я? Неужели мой крик проломил толщу лет и взорвался в моей памяти, в сегодняшнем дне, в этом пропахшем водкой и закусками купе? Неужели в той давней, бесконечно далекой, ужасной февральской ночи, в промерзлой теплушке, бессильный помочь умирающему, кричал и плакал я? Возле погасшей «буржуйки», сделанной из железной бочки, я тряс потерявшего сознание друга и кричал в его белое, с вылитой кровью лицо: «Не умирай, Валька!» И слезы стыли на моих щеках…
Все же я засыпаю под оживленный говор попутчиков.
Просыпаюсь среди ночи. Сильно болит сердце, и знакомая горячая тяжесть давит плечи, спину, как всегда бывает перед приступом. Я нашариваю в кармане пиджака стеклянную трубочку с валидолом, кладу прохладную таблетку под язык. Нет, никак нельзя допускать дело до приступа. Мне надо доехать до Москвы. Обязательно доехать! Меня там ждет обгорелый танкист. Я могу сказать ему: «Помоги, браток!» Я имею право назвать его этим словом. И он поможет мне — знаю. Мы с ним принадлежим к тому великому и трагическому поколению, у которого не было юности. Мы оставили ее на войне.
В купе душно, спертый воздух насыщен перегаром, запахами закусок и сигаретным дымом. От табачного дыма мне и стало плохо во сне. Сосуды мои теперь не выдерживают запаха никотина.
Кто-то храпит внизу так, что заглушает стук колес. Вагон сильно качает. Ночью поезда почему-то идут быстрее, чем днем, даже тот «пятьсот-веселый».
Я лежу с открытыми глазами, устремив их в темноту, чувствую, как тает под языком валидолина, наполняя рот окисью с металлически острым привкусом. Вновь вспоминаю, зачем еду в Москву.
Меня обвинили в плагиате. За повесть о Вальке, за повесть о тех событиях, что произошли зимой сорок третьего. Оказалось, что уже написана книга, очень схожая по сюжету с моей.
Тот, кто обвинил меня в плагиате, отлично понимает, что плагиата нет, и потому действует не с открытым забралом, а анонимками. Написаны анонимки в разные инстанции. Я знаю, кто это сделал, но не пойманный — не вор. Схватить же его за руку я пока не могу. Да и не один он, этот любитель одесских анекдотов. За его спиной кроются опытные и злобно-завистливые кляузники, еще более беспощадные и самовлюбленные, чем он. Они ему подсказали, а вернее, приказали начать травлю.
И заварилась каша. Все это приобрело скандальную громкость, запах сенсации, кто-то «горит» показным возмущением, на самом же деле с нетерпением ждет развязки; кто-то создает комиссии по расследованию текста моих книг; кто-то требует «беспощадного наказания» анонимщика, имя которого всем известно, но вслух не произносится, оправдывая это тем, что, мол, можно оскорбить человека, нанести травму — а вдруг не он! От всей этой возни, от всего этого фарса создается впечатление, что не столько стремятся доказать мою невиновность, сколько именно найти плагиат, во что бы то ни стало найти! Не опровергнуть вздорные обвинения, а именно доказать их! И я ощутил себя офлажкованным, загнанным в кольцо, из которого нет выхода. Осторожные люди перестали со мною здороваться.
Когда человек более беспомощен: под пулями или когда его с вежливой улыбкой убивают инфарктом? Когда мне было тяжелее: когда меня сдувало ледяным ветром с крыши вагона идущего во весь мах эшелона или сейчас, под градом анонимок, сплетен, слухов? Ясно одно: в ту ночь я знал, что мне делать, теперь — не знаю. Если бы кто-то всезнающий и всевидящий сказал мне, закоченевшему, голодному, на пределе физических сил юнцу, что у меня в жизни будут часы потруднее, — я не поверил бы, конечно. В тот лютый февраль я отделался обмороженными ушами, теперь же мне нанесли удар посильнее — у меня был сердечный приступ, и я только что отлежал полтора месяца в больнице. Тогда, в юности, я не знал, что подлость сильнее любой стужи, любого голода, любого изнеможения…
Я спускаюсь с полки, выхожу в коридор. Он пуст, двери во все купе закрыты. В коридоре уютно, чисто, сверху льется приглушенный матовый свет, не утомляет глаз.
За окнами лунная летняя ночь. Мелькают темные пики елей, насаженных вдоль железнодорожного полотна, смутно белеют стволы берез, и это мельканье деревьев вдруг зримо и ясно напоминает опять ту далекую февральскую ночь сорок третьего года, когда вот так же около теплушки хороводом кружили вековые поднебесные ели Забайкалья и редко высвечивались в лунном сиянии мертвенно-белые, будто обмороженные стволы берез.
В щели двери задувало снежную пыль, и по вагону гулял студеный ветер. Я шуровал последние головешки в железной «буржуйке», а Валька лежал возле нее на водолазных рубахах, прикрытый овчинным полушубком и сверху еще брезентом. Я свалил на него все, что было под рукой, и что могло хоть как-то защитить его от пробирающего до костей холода.

В книгу входят: широкоизвестная повесть «Грозовая степь» — о первых пионерах в сибирской деревне; повесть «Тихий пост» — о мужестве и героизме вчерашних школьников во время Великой Отечественной войны и рассказы о жизни деревенских подростков.С о д е р ж а н и е: Виктор Астафьев. Исток; Г р о з о в а я с т е п ь. Повесть; Р а с с к а з ы о Д а н и л к е: Прекрасная птица селезень; Шорохи; Зимней ясной ночью; Март, последняя лыжня; Колодец; Сизый; Звенит в ночи луна; Дикий зверь Арденский; «Гренада, Гренада, Гренада моя…»; Ярославна; Шурка-Хлястик; Ван-Гог из шестого класса; Т и х и й п о с т.
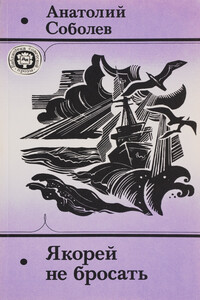
В прозрачных водах Южной Атлантики, наслаждаясь молодостью и силой, гулял на воле Луфарь. Длинный, с тугим, будто отлитым из серой стали, телом, с обтекаемым гладким лбом и мощным хвостом, с крепкой челюстью и зорким глазом — он был прекрасен. Он жил, охотился, играл, нежился в теплых океанских течениях, и ничто не омрачало его свободы. Родные места были севернее экватора, и Луфарь не помнил их, не возвращался туда, его не настиг еще непреложный закон всего живого, который заставляет рыб в определенный срок двигаться на нерестилище, туда, где когда-то появились они на свет, где родители оставили их беззащитными икринками — заявкой на будущее, неясным призраком продолжения рода своего.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть НОЧНАЯ РАДУГА — о разведчиках, которые действовали в тылу врага, о людях в Великой Отечественной войне, об их героизме, любви к Родине, о высоких духовных силах советского народа, выстоявшего и победившего в тяжелейшей схватке с фашистами.
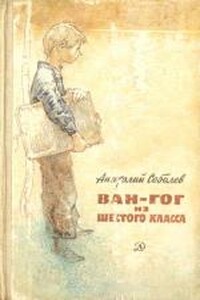
В книгу входят широкоизвестная повесть «Грозовая степь» — о первых пионерах в сибирской деревне и рассказы о жизни деревенских подростков в тридцатые годы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга посвящена жизни и многолетней деятельности Почетного академика, дважды Героя Социалистического Труда Т.С.Мальцева. Богатая событиями биография выдающегося советского земледельца, огромный багаж теоретических и практических знаний, накопленных за долгие годы жизни, высокая морально-нравственная позиция и богатый духовный мир снискали всенародное глубокое уважение к этому замечательному человеку и большому труженику. В повести использованы многочисленные ранее не публиковавшиеся сведения и документы.

Владимир Поляков — известный автор сатирических комедий, комедийных фильмов и пьес для театров, автор многих спектаклей Театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Им написано множество юмористических и сатирических рассказов и фельетонов, вышедших в его книгах «День открытых сердец», «Я иду на свидание», «Семь этажей без лифта» и др. Для его рассказов характерно сочетание юмора, сатиры и лирики.Новая книга «Моя сто девяностая школа» не совсем обычна для Полякова: в ней лирико-юмористические рассказы переплетаются с воспоминаниями детства, героями рассказов являются его товарищи по школьной скамье, а местом действия — сто девяностая школа, ныне сорок седьмая школа Ленинграда.Книга изобилует веселыми ситуациями, достоверными приметами быстротекущего, изменчивого времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


