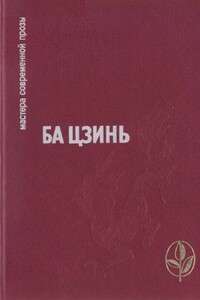Пять часов с Марио - [14]
V
Приидите и видите дела Господа, — какие произвел Он опустошения на земле: прекращая брани до конца земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем[12], — хотя я, что бы вы там ни говорили, прекрасно провела войну, имей в виду; не знаю, может быть, я была слишком легкомысленна и все такое, но я провела несколько восхитительных лет, лучших в моей жизни, не спорь со мной; все было как во время каникул, на улице полно мальчиков, такая суматоха! Ты знаешь, я даже на бомбежки не обращала внимания, они меня нисколько не пугала, хотя многие женщины вопили, как сумасшедшие, всякий раз, как начинали выть сирены. А я вот нет, честное слово, меня все это развлекало, только ведь с тобой я ни тогда, ни потом и говорить не могла об этом: всякий раз, как я начинала про это, ты тут же: «Замолчи, пожалуйста», — слова мне сказать не давал, и как подумаешь, Марио, дорогой мой, серьезных разговоров — того, что называется серьезными разговорами, — у нас с тобой было очень мало. Об одежде ты не заботился, об автомобиле и говорить нечего, праздники — то же самое, война, этот Крестовый поход — так все говорят, — казалась тебе трагедией, словом, коль скоро мы не разговаривали о том, что деньги — корень зла, или о структурах и тому подобных вещах, ты всегда мне говорил «молчи!». И почти то же самое было с детьми; надо было тебя видеть, когда я рассказывала тебе что-нибудь про Борху или про Арансасу, — сперва еще туда-сюда, но через минуту ты уже волновался: тебя беспокоит, что получится из мальчика, что будет с девочкой, — все та же песня, и ты страшно надоедал мне, дорогой, со своими страхами. Вален называла тебя «Господин Предсказатель» и была совершенно права. Послушал бы ты Борху вчера! «Я хочу, чтобы папа умирал каждый день, — тогда не надо будет ходить в школу!» Как тебе это нравится? Прямо так и сказал, да еще при всем честном народе, так что на меня столбняк нашел, честное слово. Я его отлупила чуть не до полусмерти, можешь мне поверить, ведь если что и может вывести меня из равновесия, так это бессердечный ребенок; пусть ему всего шесть лет — я это отлично знаю, я не спорю, — но если не вправлять им мозги в шестилетнем возрасте, то что выйдет из них после, скажи, пожалуйста? Ну, а ты вечно со своими нежностями — оставь его, жизнь сама научит их страдать, надо быть снисходительными, все им разрешать, смеяться над их шалостями, а там будь что будет. И не говори ты мне теперь про Альваро, потому что поступки Альваро и даже Менчу — это еще детские поступки, а скажи на милость, что особенного, если ребенок тебя спрашивает, правда ли, что ты, и я, и Марио, и Менчу, и Борха, и Аран, и тетя Энкарна, и тетя Чаро, и Доро, и все мы когда-нибудь умрем? — а ты — надо было тебя видеть, ведь для ребенка это вопрос вполне естественный, а у тебя все не как у людей: «Это правда, но через много-много лет», — вот оно как, а ведь в конце концов каждый добрый христианин — пусть теперь все стало с ног на голову на этом самом Соборе[13] — должен думать о смерти каждую минуту и жить с мыслью о том, что умрет; тогда все будет как надо. И оставь ты свои хитросплетения и пойми раз и навсегда, что страх вечных мук — это единственное, что удерживает нас от греха, всегда так было, и всегда так будет, дорогой, — ведь иногда кажется, что если вам не нравится то, что говорят об аде, так это потому, что у вас совесть нечиста, вот что я об этом думаю; ну а теперь на этом распрекрасном Соборе все перевернулось вверх дном: церковь, видите ли, должна быть церковью для бедных — счастливые эти бедные, как я всегда говорю, — а что остается нам, не бедным? Да только ты все свое — ненормально, видите ли, что такой маленький мальчик думает о том, чтобы пойти в поле лишь затем, чтобы зажечь там костер, или что он называет солдат валетами — ну что тут особенного? «Надо вызвать врача», — хорошенькое дело! Представь себе, что получится, если к каждому мальчику, которому пришло в голову зажечь костер, вызывать врача? Это то же самое, как с занятиями Менчу, — девочку книги не очень-то интересуют, и я ее одобряю, потому что, в конце концов, позволь тебя спросить, Марио, зачем женщине учиться? Что в этом проку, скажи пожалуйста? Превратится она в синий чулок — только и всего, ведь эти университетские совершенно лишены женственности — будем откровенны, — и для меня девушка, которая учится, — существо бесполое, так ты и знай. А я-то разве училась? И вот, однако, ты мной не пренебрег, потому что если говорить начистоту, то при всей этой вашей интеллектуальной жизни вам нужна хозяйка в доме — вот что, и не спорь, пожалуйста; ведь ты на меня все глаза проглядел, дружок, так что прямо жалость брала на тебя смотреть, а ведь, говоря по чистой совести, если бы ты познакомился со мной в университете, так ты бы фыркнул на меня, как кот, вот что, — вас, мужчин, сразу можно раскусить: ни от чего ваше самолюбие так не страдает, как от того, что девушка даст вам очко вперед по части знаний. Вот тебе Пакито Альварес, чтобы далеко не ходить за примером, — всякий раз, когда он неправильно употреблял слова, а я его поправляла, он прямо с ума сходил, хотя и обращал все в шутку — да, да, как же, шутки! — оно и понятно: он ведь был чуть ли не из ремесленников и удары отражал плохо, это сущая правда. Знаешь, что по этому поводу говорила мама? Говорила она, ты только послушай, что она говорила: «Порядочной девушке вполне достаточно уметь ходить, уметь смотреть и уметь улыбаться, и всему этому не научит самый лучший профессор». Здорово? Каждое утро она заставляла нас с Хулией по десять минут ходить по коридору с толстенной книгой на голове и очень весело говорила: «Вот видите, и книги могут на что-то пригодиться». И знаешь, «уметь ходить, уметь смотреть и уметь улыбаться» — по-моему, нельзя короче определить идеал женственности, а ты вот никогда не принимал маму всерьез, и это мне всего больнее, потому что мама, не говоря уже о ее исключительном уме — это не я выдумала, сам папа так говорил, — отличалась такими манерами и такой барственностью, которые могут быть только врожденными. Меня просто поражало, как правильно она оценивала любую ситуацию и как метко она определяла человека, — и все это чисто интуитивно, вовсе не по науке, сам знаешь; то есть она училась в Дамас Неграс и целый год прожила во Франции — в Дублине, что ли, не придирайся, пожалуйста, — и французский она знала в совершенстве, читала бегло, точь-в-точь как по-испански, прямо уму непостижимо. И вот я спрашиваю себя, Марио, почему бы Менчу не быть такой, как мама? Только ведь тебе ничего не втолкуешь, Марио, — всякий раз, как Менчу проваливалась на экзаменах, ты воспринимал это как катастрофу: «Я преподаю в мужском учебном заведении, а дочь у меня проваливается», — вечно одна и та же песня, а ведь ты прекрасно знаешь, что сегодня — это не вчера: теперь и дружбы не существует, теперь экзаменующийся должен знать больше экзаменатора; и если только Менчу получит хоть какую-то аттестацию — отлично, ведь многие в восемнадцать лет еще и не начинали учиться, было бы тебе известно, — вот, например, Мерседес Вильяр, а ведь она совсем не дура. А когда она кончит, ну и прекрасно, я с божьей помощью выдам ее замуж, как только пройдет время траура, сам подумай: не дело это — губить лучшие годы жизни, но уж работать она не пойдет — это еще одно твое чудачество, да простит тебя бог, Марио, — ну с каких это пор барышни должны работать? Если бы это зависело от тебя, так порядочные люди скатывались бы все ниже и ниже, пока не сравнялись бы с простонародьем; девочке нет никакой необходимости работать, мы будем жить скромно, но с достойной скромностью, — достойная скромность дороже комфорта, достигнутого нечестным путем. Этот французишка — Перре или как его там — внушил вам странные мысли, Марио, ведь и Аростеги, и Мойано, и сам дон Николас — вечно все вы, разинув рот, смотрите на то, что приходит к нам из-за границы, простаки вы этакие; я прекрасно знаю, что за границей девушки работают, и это не дело, — расшатываются устои и все такое прочее, и мы должны защищать все наше хотя бы и кулаками, если понадобится. Эти инострашки, со всеми их достижениями, ничему научить нас не могут, и, как говорит папа, если они сюда приезжают, так это потому, что им тут хорошо, вот и все; пляжи — это сплошное бесстыдство, и если бы этот Перре мог, то он задержал бы «развитие» своей страны и возродил бы там добрые нравы — ведь за версту видно, что он из порядочной семьи, — но, так как это не в его силах, пускай страдают и все остальные, а это ведь самый легкий путь. Вспомни папину статью, я ее вырезала, — это просто чудо какое-то: всякий раз, как я ее читаю, у меня прямо мурашки по телу бегают, представь себе; а каков конец: «На экспорт надо вывозить не машины, а духовные ценности и целомудрие», — ведь это сущая правда, а уж что до религиозных ценностей, так об этом и говорить не приходится, Марио, дорогой мой; а вы и знать ни-чего не хотите: подавай вам культуру — и рады перевернуть небо и землю, чтобы бедные получали образование; это еще одно ваше заблуждение, ведь вы вытаскиваете бедных из их среды, и получается ни то ни се, вы их только испортите, так и знай — они ведь сейчас же лезут в сеньоры, а этого не может быть, каждый должен устраиваться в жизни, не выходя из своего сословия — так всегда было, и вы просто смешите меня с этой кампанией, которую вы развернули в «Эль Коррео», — уж не знаю, как вашу газету не закрыли в один прекрасный день, честное слово, — все юноши, видите ли, богатые и бедные, должны иметь возможность учиться в университете, — да это же безобразие, это форменное идиотство, прости за откровенность, и когда-нибудь ты признаешь, что я была права; это все дон Николас, черт бы его побрал, сбил вас всех с толку и втихаря гнул свою линию, а все потому — если хочешь знать, — что он самого низкого происхождения: мать у него, представь себе, прачка, а то и похуже, и хотя в своей газете он и нашим, и вашим — как бы чего не вышло, — а все-таки вредный тип этот дон Николас, плохой человек, уж я тебе говорю, и это неважно, что он ходит в церковь, это все для виду — вот что, — а ведь во время войны он сидел, коли хочешь знать, и если его не расстреляли, так из чистого милосердия, а он вместо благодарности — ведь он должен был быть благодарен, — все свое: подбивает всех на всякие гадости со своей газетенкой, и вдобавок Ойарсун говорит, что он либерал, — уж дальше и ехать некуда, сам понимаешь, ведь все эти козни строят либералы, Марио, так ты и знай. За либерализм-то его и выгнали, дело ясное, тут и спорить не о чем, хоть Мойано, вместо того чтобы сбрить свою мерзкую бороду, давай отпускать шуточки, а мне вовсе не смешно — «Какой он либерал, он святоша: он и мочится святой водой», — подумай только, что за выражения! Да ведь и то сказать: либерала только по грубости и узнаешь, они все носят маску, а сами лезут и лезут — и не заметишь, как они станут твоими друзьями, потому что если бы они орали во все горло: «Мы — либералы», — так, конечно, перед ними закрылись бы все двери, как перед коммунистами, а так они делают свое дело, лезут и лезут, и когда ты их раскусываешь, то уж бывает поздно. И больше всего на свете меня огорчало, дорогой, что ты писал в «Эль Коррео» в таком тоне, и все по глупости, по чистой глупости: сам того не зная, ты помогал силам зла; ну хоть бы тебе прилично платили за это, а то — посуди сам — двадцать дуро за статью — вот так плата! — да ведь это нищенство; и потом, каждый раз, как я видела, что ты идешь причащаться, я была в ужасе: я думала, что это кощунство, представь себе! — я никогда не говорила тебе об этом, но ведь есть вещи, которые совместить невозможно; вот, например, бог и «Эль Коррео» — это все равно что поставить одну свечку богу, а другую — дьяволу. И будь уверен, что дон Николас, причащаясь, всякий раз совершает смертный грех, потому что дон Николас — плохой человек, и если он влез тебе в душу, так это только потому, что в тот вечер он заступился за тебя перед жандармом, а хотя бы жандарм тебя и ударил — скажите на милость! — я-то, положим, этому не верю, — все равно закон есть закон, и если ездить через парк на велосипеде запрещено — это ведь всем известно, как ты там ни крути, — значит, жандарм исполнял свой долг, и если бы даже он тебя убил, так это было бы при исполнении служебных обязанностей, так и знай; и хочешь, я тебе скажу еще кое-что? — таков порядок вещей, вот что, порядок заведен, и ничего в этом нет плохого, если хочешь знать, — ведь ты нарушил закон, а этот человек носит мундир и, стало быть, должен защищать закон, за это ему платят деньги, а вы думаете, что если вы уже не дети, так вам разрешается делать все, что угодно; а вот и нет, заблуждаетесь — взрослые обязаны слушаться точно так же, как и дети, не отца с матерью, конечно, а властей: власти заменяют нам родителей, хорошенькие были бы у нас без них порядки! И что бы ты там ни говорил, Рамон Фильгейра поступил как настоящий кабальеро, когда принял тебя, дружок, но ведь он достаточно умен и понимает, что если алькальд не поверит своим жандармам — так кто же им поверит? И уж я тебе говорю, жандарм в два часа ночи, да еще в такой холод, — это все равно что министр внутренних дел, разве нет, скажи пожалуйста? И еще бы не хватало, чтобы в полицейском участке или в комиссариате тебя встретили с распростертыми объятиями, — чего захотел! — скажи на милость, как бы ты поступил со студентом, который побеспокоил бы тебя об эту пору? — да ты бы его просто с лестницы спустил, и это вполне естественно; все мы люди, все человеки; а кроме всего прочего, если бы ты не задержался так с проверкой упражнений, тебе не понадобилось бы ехать на велосипеде, что, кстати сказать, вовсе тебе не пристало, и нам не на что было бы жаловаться. Будь он проклят, твой велосипед: всякий раз, как я видела тебя на нем, я прямо сгорала со стыда, а уж когда ты устроил на нем сиденье для ребенка, так и говорить не приходится, я готова была убить тебя, столько из-за тебя наплакалась, полоумный ты, вот кто, — уж тут-то ты со мной ни капельки не считался, ну скажи, что это не так! Ясное дело — черного кобеля не отмоешь добела, а у тебя всегда были пролетарские вкусы, это для меня вовсе не новость, но меня злит, что дон Николас лезет куда его не просят, я его просто не перевариваю, интересно знать, кто его звал — это, видите ли, злоупотребление властью, это оскорбление человеческого достоинства, — пусть скажет спасибо, что дело обошлось всего-навсего штрафом; будь уверен, что если бы это зависело от меня, то уж так дешево вам бы не отделаться. Закатить бы касторки, как это делала во время войны, — и, даю тебе честное слово, он сразу научился бы вести себя; а то вот есть еще плетка-семихвостка, или как там она называется, — я слышала, что эти штуки употребляют за границей для усмирения крикунов.

Известный испанский писатель Мигель Делибес (р. 1920) полагает, что человек обретает силу, свободу и счастье только в единении с природой. Персонажи его романа «Крысы» живут в адских условиях, но воспринимают окружающее с удивительной мудростью и философским спокойствием.

Творчество выдающегося испанского прозаика хорошо знакомо советскому читателю. В двух последних произведениях, включенных в настоящий сборник, писатель остается верен своей ведущей теме — жизни испанской деревни и испанского крестьянина, хотя берет ее различные аспекты.

В 1950 году Мигель Делибес, испанский писатель, написал «Дорогу». Если вырвать эту книгу из общественного и литературного контекста, она покажется немудреным и чарующим рассказом о детях и детстве, о первых впечатлениях бытия. В ней воссоздан мир безоблачный и безмятежный, тем более безмятежный, что увиден он глазами ребенка.
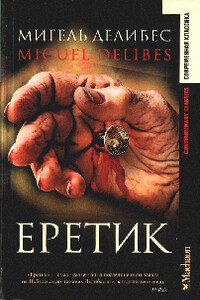
Мигель Делибес, корифей и живой классик испанской литературы, лауреат всех мыслимых литературных премий давно и хорошо известен в России («Дорога», «Пять часов с Марио», «У кипариса длинная тень», др.). Роман «Еретик» выдвигается на Нобелевскую премию. «Еретик» — напряженный, динамичный исторический роман. По Европе катится волна лютеранства, и католическая церковь противопоставляет ей всю мощь Инквизиции. В Испании переполнены тюрьмы, пылают костры, безостановочно заседает Священный Трибунал, отдавая все новых и новых еретиков в руки пыточных дел мастеров… В центре повествования — судьба Сиприано Сальседо, удачливого коммерсанта, всей душой принявшего лютеранство и жестоко за это поплатившегося.

Действие повести испанского писателя М. Делибеса «Опальный принц» ограничено одним днем в жизни трехлетнего мальчика из состоятельной городской семьи. Изображаемые в книге события автор пропускает через восприятие ребенка, чье сознание, словно чувствительная фотопленка, фиксирует все происходящее вокруг. Перед нами не только зарисовка быта и взаимоотношений в буржуазной семье, но и картина Испании последнего десятилетия франкистского режима.

Мигель Делибес, ведущий испанский писатель наших дней, хорошо известен русскоязычному читателю. Повесть «Клад» рассказывает о сегодняшнем дне Испании, стоящих перед нею проблемах.
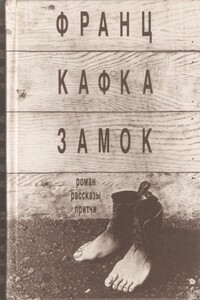
Франц Кафка. Замок. Роман, рассказы, притчи. / Сост., вступ. статья Е. Л. Войскунского. — М.: РИФ, 1991 – 411 с.В сборник одного из крупнейших прозаиков XX века Франца Кафки (1883 — 1924) вошли роман «Замок», рассказы и притчи — из них «Изыскания собаки», «Заботы отца семейства» и «На галерке», а также статья Л. З. Копелева о судьбе творческого наследия писателя впервые публикуются на русском языке.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Один из лучших романов Гюго — «Отверженные». Это громадная эпопея, представляющая целую энциклопедию французской жизни начала XIX века. Сюжет романа чрезвычайно увлекателен, судьбы его героев удивительно связаны между собой неожиданными и таинственными узами. Его основная идея — это путь от зла к добру, моральное совершенствование как средство преобразования жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
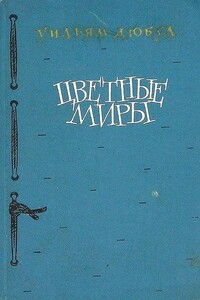
Роман американского писателя Уильяма Дюбуа «Цветные миры» рассказывает о борьбе негритянского народа за расовое равноправие, об этапах становления его гражданского и нравственного самосознания.
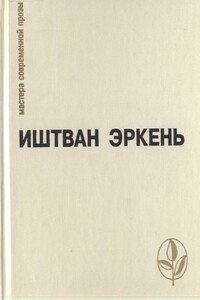
Грозное оружие сатиры И. Эркеня обращено против социальной несправедливости, лжи и обывательского равнодушия, против моральной беспринципности. Вера в торжество гуманизма — таков общественный пафос его творчества.
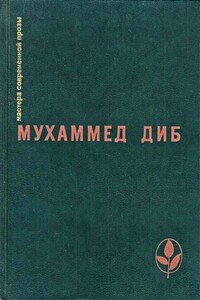
Мухаммед Диб — крупнейший современный алжирский писатель, автор многих романов и новелл, получивших широкое международное признание.В романах «Кто помнит о море», «Пляска смерти», «Бог в стране варваров», «Повелитель охоты», автор затрагивает острые проблемы современной жизни как в странах, освободившихся от колониализма, так и в странах капиталистического Запада.
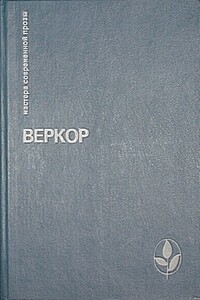
Веркор (настоящее имя Жан Брюллер) — знаменитый французский писатель. Его подпольно изданная повесть «Молчание моря» (1942) стала первым словом литературы французского Сопротивления.Jean Vercors. Le silence de la mer. 1942.Перевод с французского Н. Столяровой и Н. ИпполитовойРедактор О. ТельноваВеркор. Издательство «Радуга». Москва. 1990. (Серия «Мастера современной прозы»).