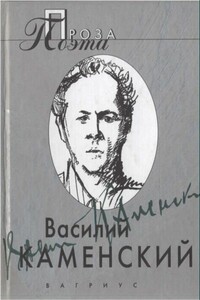Очарованье!
Кама – в полной утренней затуманенной спокойствии и, как лебедь на озере, красуется перед окнами белый, гордый пароход, стоящий на якоре, а у пристани – пять большущих барж.
И кругом тишина нежная, ровно это – виденье. Даже слышно, как за Камой птички свистят, как рыба всплескивается на заре, а в тумане чернеются рыбачьи лодки.
Смотрю в одно место, знаю: там, у закамского берега, с лодки удит знаменитый рыбак Шатров – всеобщий любимец, ибо всем на изумленье Шатров выуживает крупную рыбу; язей, лещей, подустов, окуней.
Да он и сам слюнявыми губами походит на выуженною подуста.
Золотым апельсином солнце выкатилось над лесом.
И в этот час – точно в шесть утра – басисто протяжно заревели гудки мотовилихинскою пушечного завода, к ним разом присоединились чугунно-литейные и судостроительные заводы Каменских, Любимова, фабрика Алафузова и всякие иные.
Пестрая музыка призывных будящих гудков долго, настойчиво разливалась по проснувшейся Каме.
И вдруг развороченный муравейником зашевелилась наша буксирная пристань.
Проскрипели Громадные железные двери пяти каменных лабазов.
Словно ветром, срывались брезенты с длинных рядов ящиков и бочек, лежащих под небом открытый.
С фырканьем, с ржаньем потянулась бесконечная вереница ломовых лошадей с телегами к этим рядам, чтобы увезти клади в город.
Грузчики, в широких штанах, в лаптях, в длинных рубахах с расстегнутыми воротами, возили на тачках товар с барж в лабазы, или носили на спине, на «подушках».
Пристанские мостки стонали под тяжестью груза.
Изо дня в день, из ночи в ночь, как из года в год, буксирная любимовская пристань жила своей грузовой, товарной жизнью, а иной жизни не видел, не знал я.
Приходили пароходы с баржами и уходили.
Прибегали пароходы пассажирские выгружаться или нагружаться, и убегали.
Грузчики-крючники кишели с тачками, ломовые матершинно ухали на лошадей со стопудовыми возами, суетились матросы, приказчики-матерьяльные, толпился народ около конторы, пригоняли арестантов на; работу.
Здесь, на пристани, болтаясь целые дни, учился я стремительно познавать жизнь и труд людского муравейника.
До жгучей страстности полюбил эту гущу пристанских впечатлений и мне попеременно хотелось быть: то крючником, то матросом, то водоливом, то капитаном.
Только – не арестантом.
Ибо Кама дышала широкой вольностью и звала, сердешная, в дороги дальные, в края неведомые.
Туда и смотрели глаза из окна.
Осенью меня – сироту семилетнего – тетя Саша повела в церковную школу при Слудской церкви.
Усадили за парту, – эта штука очень понравилась устройством и тем, что от нее пахло свежей краской, и вообще удивил особенный школьный воздух.
Во время молебна оглядывал стены: всюду картины ветхого и нового завета, а на передней стене – царские портреты.
После молебна, когда приложились ко кресту и каждого окропили святой водой, священник рассказал, что надо начинать учиться, что надо молиться богу за царя, за отечество, за родителей и всех их очень слушать, повиноваться, бояться.
Подумал: у меня же нет родителей.
Нам каждому «батюшко» выдал по сухой просфоре, мы поцеловали ему руки и нас отпустили домой.
На следующий день нас выучили четырем буквам: Аз, Буки, Веди, Глаголь.
Сначала не понимал – почему Веди да Аз получается ва, а по-моему выходило – ведиаз.
И что это такое «ведиаз» – не разумел.
В дальнейшем стал разбираться лучше, но веселили слова: Зело, Паки, Мыслете, Буки.
Мыслете да Аз, Мыслете да Аз – получалась мама.
Вот это – штука.
Очень удивительно!
Тем более, что мы начали учиться по-славянски и первой нашей книгой был «часослов».
Мы учили наизусть молитвы и потом их все пели, и учили закон божий, и писать, считать.
По воскресеньям и в праздники нас водили в церковь, мы соблюдали посты.
Играть, шалить в церковной ограде, во время перемены, не давали.
Шалунов, ротозеев в школе ставили в угол, лицом к стене, оставляли «без обеда», т. е. задерживали ученика на 2–3 часа.
Дома ругали, теребили за уши, за волосы, если тетю Сашу вызывали в школу и говорили ей о моем нерадении к закону божию.
Церковная жизнь мне не нравилась.
Школа сразу опротивела.
Стало смертельно-скучно учиться при церкви и петь молитвы.
Через два года меня определили в другую, городскую школу, что находилась на базаре.
Там было интереснее: больше ребят, больше книг, больше шалостей, а сторож Николай, унтер-офицер, обучал гимнастике.
Из школьных окон было видно, как торгуют на, базаре, как ловят жуликов, как бегает городовой и свистит.
Но и здесь, в городской, ставили в угол, давали по морде, драли за уши, оставляли без обеда и часто пели: «боже царя храни», и еще «спаси, господи, люди твоя».
Учителя – сплошь сердитые – того и гляди загрызут, как цепные собаки, за любую маленькую провинность или неуспешность.
В школу ходить страшно: душа замирает от испуга, когда урок начинается – вдруг да спросят такое, чего е знаешь.
А учителя обязательно спрашивают такое, чего не знаешь.
– Давай дневник, идиот, – рычит учитель и ставит жирную двойку с минусом.
Дома за эту двойку лупят два полных дня и полдня за минус.
Или вдруг в школу торжественно приезжает архиерей, важно обходит (и все учителя за ним на цыпочках) классы и спрашивает нас по «закону божию», а мы – несчастные – в общем ужасе.