Пушкин — либертен и пророк. Опыт реконструкции публичной биографии - [97]
В свою очередь, император все с большим интересом и симпатией присматривался к Пушкину, преодолевая сложившееся недоверие. 1830 год был в этом отношении переломным, царь выступил с негласной поддержкой Пушкина в его полемике с Булгариным («…В сегодняшнем номере Пчелы находится опять несправедливейшая и пошлейшая статья, направленная против Пушкина; к этой статье наверное будет продолжение; поэтому предлагаю вам призвать Булгарина и запретить ему отныне печатать какие бы то ни было критики на литературные произведения…» (оригинал по-французски; письмо Николая — А. Х. Бенкендорфу[682]). Но, конечно, наиболее значительным обстоятельством, указывающим на перемены в отношениях поэта и императора, было то, что в 1830 году Николай наконец разрешил публикацию «Бориса Годунова» безо всяких изменений:
Что же касается трагедии вашей о Годунове, то его императорское величество разрешает вам напечатать ее за вашей личной ответственностью (оригинал по-французски; Письмо А. Х. Бенкендорфа — Пушкину от 28 апреля 1830 года. — XIV, 82, 409).
Последнее обстоятельство могло позволить Пушкину надеяться, что новый император ждет от него не обязательно апологетического сочинения, а допускает критическое осмысление личности царя-преобразователя. И в этом, как мне представляется, кроется причина пушкинского первоначального, существовавшего на момент вступления в должность историографа, оптимизма.
Надежда Пушкина на то, что ему позволят написать критическую историю Петра, подкреплялась еще и тем, что Пушкину открыли доступ к самым секретным архивам, в том числе к делам о царевиче Алексее и к бывшей тайной канцелярии. Так, 12 января 1832 года Нессельроде запрашивал, «благоугодно ли будет» царю, чтобы Пушкину «открыты были все секретные бумаги времен императора Петра I», «как-то: о первой супруге его, о царевиче Алексее Петровиче; также дела бывшей Тайной канцелярии»[683]. Император распорядился, чтобы исторические документы выдавались Пушкину «по назначению», то есть под контролем Д. Н. Блудова, ведавшего секретными архивными делами. Последний назначил Пушкину встречу (18 февраля 1832 года), чтобы обсудить порядок использования секретных архивных документов. Весьма знаменательно, что на этой встрече, кроме В. А. Поленова, управляющего главным архивом министерства, присутствовал К. С. Сербинович, историк и цензор, в недалеком прошлом секретарь Н. М. Карамзина.
Сербинович не чужой Пушкину человек, он благожелательно цензуровал некоторые его произведения, и Пушкин его за это ценил. Однако можно предположить, что полученные Пушкиным инструкции были строги, и это обстоятельство стало причиной того, что ни одной выписки из секретных документов, к которым он получил доступ, Пушкин не сделал[684]. Интересно, что уже после смерти поэта, в 1840 году, Сербинович цензуровал незаконченный исторический труд Пушкина о Петре и в печать его не допустил.
Почти никаких выписок не сделал Пушкин и из книг библиотеки Вольтера, другого закрытого источника, к которому Пушкина допустили по специальному распоряжению императора в марте 1832 года[685]. И вообще, почти никаких следов работы Пушкина над историческим сочинением о Петре, относящихся ко времени ранее чем середина 1834 года, исследователи не обнаружили; а те, что были обнаружены, имеют единичный характер[686]. Исключение — набросок «Москва была освобождена», который можно рассматривать как подступ к «Истории Петра»[687] — на том основании, что этот отрывок продолжает историческое повествование ровно с того момента, на котором остановился в «Истории Государства Российского» Карамзин.
К середине 1832 года от пушкинского оптимизма не осталось и следа. Кажется, что, берясь за создание исторического сочинения о Петре, Пушкин не представлял себе зловещих подробностей этой истории. Многие из них стали известны Пушкину только тогда, когда он стал заниматься историей Петра самостоятельно[688].
Определенные надежды на то, что написание критической истории Петра окажется возможным, могло дать назначение в конце 1832 года Уварова товарищем министра (фактически министром) просвещения. Новая государственная идеология, которая вскоре после этого назначения будет воплощена в знаменитой триаде, содержала в себе, как уже было сказано, значительный антипетровский подтекст. В это время отношения Пушкина с Уваровым были еще вполне дружескими[689], и в сентябре 1832 года Пушкин провел целый день в обществе своего старого знакомого и бывшего арзамасца. Уваров показал Пушкину Московский университет и дал обед, на котором присутствовали, кроме Пушкина, С. П. Шевырев, Погодин и другие профессора университета, составлявшие на тот момент цвет русской науки, И. И. Давыдов, принявший после смерти А. Ф. Мерзлякова кафедру русской философии; философ-шелленгианец М. Г. Павлов; крупнейший историк-археограф своего времени П. М. Строев, автор «Ключа к „Истории государства Российского“ Карамзина»; историк и этнограф М. А. Максимович[690]. Можно не сомневаться, что собравшиеся принимали Пушкина как коллегу-историка и что работа над «Историей Петра» была одной из важных застольных тем. Выбор приглашенных лиц был сделан Уваровым не случайно. Здесь собрались те, с чьей помощью он хотел утверждать новую идеологию национального единения, и Пушкин как историограф Петра был нужен будущему министру просвещения именно для этой цели. Трое из присутствующих, кроме Пушкина, — Уваров, Погодин и Строев — связаны общей памятью о Карамзине, и очень вероятно, что критическое отношение Карамзина к Петру было важным предметом разговора. В цепи событий, предшествовавших написанию «Медного всадника», этот день, проведенный в Москве, был очень важен. В этот день Пушкин почувствовал, что отношение к Петру в рамках официальной идеологии может измениться с приходом Уварова во власть.

Как наследие русского символизма отразилось в поэтике Мандельштама? Как он сам прописывал и переписывал свои отношения с ним? Как эволюционировало отношение Мандельштама к Александру Блоку? Американский славист Стюарт Голдберг анализирует стихи Мандельштама, их интонацию и прагматику, контексты и интертексты, а также, отталкиваясь от знаменитой концепции Гарольда Блума о страхе влияния, исследует напряженные отношения поэта с символизмом и одним из его мощнейших поэтических голосов — Александром Блоком. Автор уделяет особое внимание процессу преодоления Мандельштамом символистской поэтики, нашедшему выражение в своеобразной игре с амбивалентной иронией.

Виктор Гюго — имя одновременно знакомое и незнакомое для русского читателя. Автор бестселлеров, известных во всём мире, по которым ставятся популярные мюзиклы и снимаются кинофильмы, и стихов, которые знают только во Франции. Классик мировой литературы, один из самых ярких деятелей XIX столетия, Гюго прожил долгую жизнь, насыщенную невероятными превращениями. Из любимца королевского двора он становился политическим преступником и изгнанником. Из завзятого парижанина — жителем маленького островка. Его биография сама по себе — сюжет для увлекательного романа.
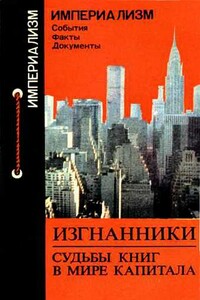
Очерки, эссе, информативные сообщения советских и зарубежных публицистов рассказывают о судьбах книг в современном капиталистическом обществе. Приведены яркие факты преследования прогрессивных книг, пропаганды книг, наполненных ненавистью к социалистическим государствам. Убедительно раскрыт механизм воздействия на умы читателей, рассказано о падении интереса к чтению, тяжелом положении прогрессивных литераторов.Для широкого круга читателей.
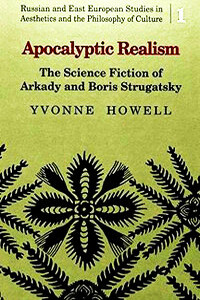
Данное исследование частично выполняет задачу восстановления баланса между значимостью творчества Стругацких для современной российской культуры и недополучением им литературоведческого внимания. Оно, впрочем, не предлагает общего анализа места произведений Стругацких в интернациональной научной фантастике. Это исследование скорее рассматривает творчество Стругацких в контексте их собственного литературного и культурного окружения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.