Пушкин — либертен и пророк. Опыт реконструкции публичной биографии - [90]
Вывод Измайлова был подтвержден позднейшим изучением корпуса рукописей обеих поэм, проделанным С. М. Бонди[627]. О. С. Соловьева, принимая главный вывод Измайлова — Бонди, выявила и некоторые серьезные ошибки в их текстологических построениях. Она показала, что написание пятнадцати перебеленных строф «Езерского» не предшествовало созданию «Медного всадника», как полагали ее старшие коллеги, а последовало за тем, как «Медный всадник» был написан, представлен на одобрение императору и не получил ожидаемого одобрения[628]. Уточнение Соловьевой, на наш взгляд, только усилило вывод ее предшественников о независимости генезисов обоих произведений, поскольку показало, что замысел «Езерского» не был поглощен «Медным всадником» и что работа над поэмой была продолжена и после завершения «петербургской повести».
Вывод о том, что «Езерский» и «Медный всадник» суть разные произведения, естественно влечет за собой вопрос о том, почему в марте 1833 года Пушкин оборвал работу над «Езерским» и спустя пять месяцев всего за три недели создал другое произведение на петербургскую тему, где неторопливый нарратив «свободного романа» заменяется динамичной и конфликтной фабульностью, легко сводимой к анекдоту. Конфликтно само название — «Медный всадник», метафорически (и метонимически) представляющее Петра в двух различных ипостасях, как памятник и как историческое лицо. Здесь следует вспомнить, что в пушкинском поэтическом словаре, сложившемся еще до написания «Медного всадника», словом «всадник» часто назывался Наполеон («Свершитель роковой безвестного веленья, / Сей всадник, перед кем склонилися цари, / Мятежной Вольности наследник и убийца, / Сей хладный кровопийца» («Недвижный страж дремал на царственном пороге…»)[629].
В пушкинской поэме Петр «ужасен… в окрестной мгле», подобно тому как в лирике 1810-х годов «ужасом мира» был провозглашен Наполеон. Образ Наполеона, принципиально оксюморонный, постоянно «просвечивает» сквозь образ Петра в «Медном всаднике»[630].
Конфликтность названия задает противопоставление других элементов репрезентации образа Петра в «петербургской повести». Так, во «Вступлении» Петр, с одной стороны, является в своей исторической ипостаси основателя города, но, поскольку это событие символически уподобляется библейскому творению мира из ничего, установлению порядка из первозданного хаоса, Петр выступает еще и как демиург. Ассоциативная связь сцены основания Петербурга в поэме с Библией усиливается за счет того, что Пушкин табуирует имя царя-основателя. Как показывают черновики, поэт делает это еще на раннем этапе работы над «Вступлением», где возникшее было прямое называние царя по имени «великий Петр» почти сразу заменяется многозначительным «он».
В основной части поэмы статус Петра меняется. Основатель Петербурга характеризуется здесь уже как ложное божество: «горделивый истукан», «идол»; при этом наводнение соотносится с библейским потопом и называется «Б-жьей стихией». Бунт Евгения приобретает характер кумироборчества. Вместе с тем, обращенное к «кумиру», к «медному идолу», его проклятие направлено и против исторического Петра, «чьей волей роковой / Под морем город основался». Столкновение Евгения со статуей становится возможным в результате того, что он теряет свою социальную и даже человеческую природу и становится «ни то, ни се, ни житель света, ни призрак мертвый», а «Медный всадник» оживает, вновь становится «грозным царем» и спускается со своей непоколебимой даже в момент наводнения, надмирной высоты. Кульминации сцена бунта достигает тогда, когда Евгений манифестирует чудесную природу Петра, называя его «строитель чудотворный». В Библии в качестве «строителя» — основателя города — раньше всех назван Каин. Кроме того, культурная традиция, связанная с Библией, в качестве другого строителя — Вавилонской башни — называет надменного нечестивца Нимврода. Пушкин знал об этом из драмы Байрона «Сарданапал». Упоминая данный сюжет в «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях», он отмечает, что в образе Нимврода «изобразил он ‹Байрон› Петра Великого» (XI, 55). Интересно, что это наблюдение Пушкина не находит подтверждения в контексте байроновского творчества и отражает, скорее всего, пушкинские представления о богоборческом характере Петра, что, на наш взгляд, подтверждает упоминание о «вавилонской башне» в рукописи Пушкина именно в те дни, когда он работает над «Медным всадником», 14 октября 1833 года. В тот день в черновиках «Сказки о рыбаке и рыбке» мы находим: «Воротился старик к старухе… / Перед ним вавилонская башня / На самой на верхней на макушке / Сидит его старая старуха» (III, 1087).
Сцена бунта включает в себя нарушение другого важнейшего табу, имеющего место в поэме и тоже, как и запрет на прямое называние демиурга, имеющего библейский генезис, а именно запрет смотреть в лицо Медного всадника. До сцены бунта Евгений видит памятник только со спины («И обращен к нему спиною»); в сцене бунта обходит его и наводит «взоры дикие ‹…› на лик державца полумира». И это табу отсылает нас к Библии, где сказано:

Как наследие русского символизма отразилось в поэтике Мандельштама? Как он сам прописывал и переписывал свои отношения с ним? Как эволюционировало отношение Мандельштама к Александру Блоку? Американский славист Стюарт Голдберг анализирует стихи Мандельштама, их интонацию и прагматику, контексты и интертексты, а также, отталкиваясь от знаменитой концепции Гарольда Блума о страхе влияния, исследует напряженные отношения поэта с символизмом и одним из его мощнейших поэтических голосов — Александром Блоком. Автор уделяет особое внимание процессу преодоления Мандельштамом символистской поэтики, нашедшему выражение в своеобразной игре с амбивалентной иронией.

Виктор Гюго — имя одновременно знакомое и незнакомое для русского читателя. Автор бестселлеров, известных во всём мире, по которым ставятся популярные мюзиклы и снимаются кинофильмы, и стихов, которые знают только во Франции. Классик мировой литературы, один из самых ярких деятелей XIX столетия, Гюго прожил долгую жизнь, насыщенную невероятными превращениями. Из любимца королевского двора он становился политическим преступником и изгнанником. Из завзятого парижанина — жителем маленького островка. Его биография сама по себе — сюжет для увлекательного романа.
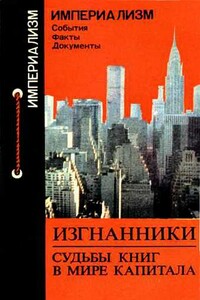
Очерки, эссе, информативные сообщения советских и зарубежных публицистов рассказывают о судьбах книг в современном капиталистическом обществе. Приведены яркие факты преследования прогрессивных книг, пропаганды книг, наполненных ненавистью к социалистическим государствам. Убедительно раскрыт механизм воздействия на умы читателей, рассказано о падении интереса к чтению, тяжелом положении прогрессивных литераторов.Для широкого круга читателей.
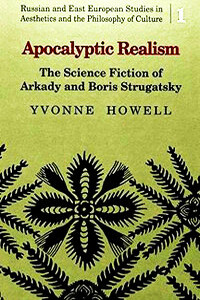
Данное исследование частично выполняет задачу восстановления баланса между значимостью творчества Стругацких для современной российской культуры и недополучением им литературоведческого внимания. Оно, впрочем, не предлагает общего анализа места произведений Стругацких в интернациональной научной фантастике. Это исследование скорее рассматривает творчество Стругацких в контексте их собственного литературного и культурного окружения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.