Пушкин — либертен и пророк. Опыт реконструкции публичной биографии - [50]
В рассказах Шевырева, Нащокина и Соболевского, таким образом, вызывает вопрос не то, существовало или нет некое стихотворение оппозиционного характера, в этом они едины, а то, не было ли это стихотворение пушкинским «Пророком». Так называет его только далекий от литературы Нащокин, Шевырев оставляет его вовсе без названия, а Соболевский обозначает лишь его тему — «о повешенных», исправленную Погодиным на «14 декабря». Кроме того, сам Шевырев публиковался в том же номере «Московского вестника», где в 1828 году был напечатан пушкинский «Пророк». Важно отметить, что «Пророком» пушкинское стихотворение, прочитанное в Москве в кругу литераторов «Московского вестника» по возвращении поэта из Михайловского в сентябре 1826 года, назвал не сам Пушкин, а Погодин в своих позднейших признаниях Бартеневу («Пушкин прочел „Пророка“ (который после „Бориса“ произвел наибольшее действие)»[369]).
Между тем в пушкинском списке 1827 года стихотворение значится под названием «Великой скорбию томим»[370]. М. А. Цявловский, комментировавший «Пророка» в Большом академическом собрании, специально указывает на то, что само заглавие — «Пророк» — было дано Пушкиным тексту, напечатанному в «Московском вестнике», только в апреле — августе 1827 года (III, ИЗО).
Необходимо понять, как тогда загадочное стихотворение, привезенное Пушкиным из Михайловского, соотносится с тем, которое под названием «Пророк» и без указания года Пушкин опубликовал в «Московском вестнике».
Сразу отметим, что в контексте «Московского вестника», и шире — в контексте пушкинского творчества 1827–1828 годов, «Пророк» (в дальнейшем изложении мы будем без специальной оговорки называть «Пророком» стихотворение, опубликованное в «Московском вестнике») совершенно не выглядел как произведение оппозиционного характера и не содержал в себе никаких указаний на Декабрьское восстание. Незадолго до «Пророка» «Московский вестник» опубликовал «Стансы» и в течение 1827 года в обществе с разрешения императора в списках распространялось послание «Друзьям». Оба стихотворения трудно причислить к числу «возмутительных», а ведь именно в их контексте воспринимался «Пророк». Вспомним также, что Нащокин от самого Пушкина слышал о том, что в привезенном поэтом стихотворении «предсказывались совершившиеся события 14 декабря», чего категорически невозможно усмотреть в тексте известного нам, «канонического», так сказать, «Пророка». Заметим также, что свидетельство Нащокина недвусмысленно указывает на то, что это, привезенное Пушкиным произведение было написано до 14 декабря, иначе указание на пророческий («профетический») его характер теряло бы смысл.
Имеется также позднейшее свидетельство А. С. Хомякова (в письме И. С. Аксакову), которое совершенно невозможно отнести к стихотворению, опубликованному под названием «Пророк» в «Московском вестнике»:
«Пророк», бесспорно, великолепнейшее произведение русской поэзии, получил свое значение, как вы знаете, по милости цензуры (смешно, а правда)[371].
Дело в том, что никаких цензурных трудностей с публикацией «Пророка» не было, поэтому весьма сложно отнести приведенное свидетельство именно к нему.
Таким образом, отождествление произведения, о котором говорят мемуаристы, со стихотворением, опубликованным Пушкиным в «Московском вестнике» под названием «Пророк», не представляется очевидным, несмотря на то что все приведенные выше свидетельства в исследовательской практике традиционно относятся именно к нему. Отметим при этом, что Шевырев, Погодин, Аксаков, Хомяков и Соболевский, то есть почти все упомянутые мемуаристы, принадлежали к тому кругу московских друзей и знакомых Пушкина, где в сентябре — октябре 1826 года действительно происходили публичные чтения его произведений, и все они слышали «Пророка» гораздо прежде его появления в печати[372].
Определенные подозрения относительно того, что в сентябре — октябре 1826 года Пушкин читал какое-то одно стихотворение, а опубликовал в «Московском вестнике» какое-то другое, связанное с первым общей темой «пророка», «пророчества» и/или сходным названием, получают свое подтверждение в переписке Погодина с П. А. Вяземским, относящейся к 1837 году, когда Вяземский занимался после смерти Пушкина разбором его рукописей. В это время Погодин интересуется, не сохранился ли среди прочих произведений автограф «Пророка», а получив отрицательный ответ, сам сообщает Вяземскому:
Пророк он написал, ехавши в Москву в 1826 году. Должны быть четыре стихотв‹орения›, первое только напечатано (Духовной жаждою томим etc.)[373].
Свидетельство Погодина обладает особой ценностью, потому что, во-первых, он сам слышал осенью 1826 года какое-то стихотворение, впоследствии определенное им как «Пророк», во-вторых, будучи издателем «Московского вестника», получил от Пушкина (через Соболевского) в конце 1827 года текст стихотворения, которое было названо «Пророком» самим поэтом. Если это было одно и то же стихотворение, то остается непонятным, почему Пушкин не передал его издателю «Московского вестника» уже после первого прочтения, несмотря на большой интерес, как было сказано, к этому произведению со стороны Погодина. Примечателен тот факт, что, получив стихотворение, которое вскоре опубликует, Погодин не называет его «Пророком»: «Восхищался стихами Пушкина из Исайи» (запись от 12 ноября 1827 г.)

Как наследие русского символизма отразилось в поэтике Мандельштама? Как он сам прописывал и переписывал свои отношения с ним? Как эволюционировало отношение Мандельштама к Александру Блоку? Американский славист Стюарт Голдберг анализирует стихи Мандельштама, их интонацию и прагматику, контексты и интертексты, а также, отталкиваясь от знаменитой концепции Гарольда Блума о страхе влияния, исследует напряженные отношения поэта с символизмом и одним из его мощнейших поэтических голосов — Александром Блоком. Автор уделяет особое внимание процессу преодоления Мандельштамом символистской поэтики, нашедшему выражение в своеобразной игре с амбивалентной иронией.
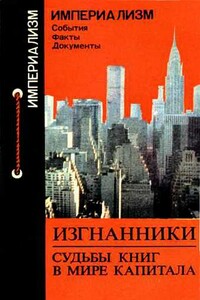
Очерки, эссе, информативные сообщения советских и зарубежных публицистов рассказывают о судьбах книг в современном капиталистическом обществе. Приведены яркие факты преследования прогрессивных книг, пропаганды книг, наполненных ненавистью к социалистическим государствам. Убедительно раскрыт механизм воздействия на умы читателей, рассказано о падении интереса к чтению, тяжелом положении прогрессивных литераторов.Для широкого круга читателей.
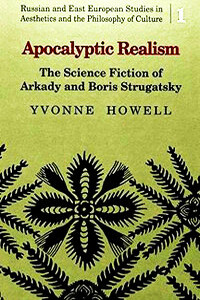
Данное исследование частично выполняет задачу восстановления баланса между значимостью творчества Стругацких для современной российской культуры и недополучением им литературоведческого внимания. Оно, впрочем, не предлагает общего анализа места произведений Стругацких в интернациональной научной фантастике. Это исследование скорее рассматривает творчество Стругацких в контексте их собственного литературного и культурного окружения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.