Пушкин — либертен и пророк. Опыт реконструкции публичной биографии - [27]
милосердие государя, то есть никак.
Возможно, что это двойное неверие, в Высшее милосердие и в милосердие царя, и определило характерное для послания совпадение политического и антиконфессионального дискурсов, отмеченное В. Паперным. Однако только ли обстоятельства жизни поэта весны 1821 года обеспечили это совпадение или прав был исследователь, увидевший здесь влияние идеологии Великой французской революции?
К ложному и лицемерному относится поведение самого автора: «Я стал умен, [я] лицемерю — / Пощусь, молюсь и твердо верю, / Что бог простит мои грехи, / Как государь мои стихи» (II, 178–179). Любопытно, что лицемерие фигурирует в стихах Пушкина как проявление ума. Трудно сказать, как много иронии в этом определении. Примерно в те же дни, когда писалось послание, 9 апреля 1821 года, Пушкин встречался с Пестелем, после чего записал в «Дневнике»: «умный человек во всем смысле этого слова» (XII, 303). Следовательно, значение слова «ум» «во всем смысле» именно весной 1821 года стало предметом размышлений Пушкина.
Можно предположить, что эти размышления были связаны с осмыслением трактата Гельвеция «Об уме». Страстная характеристика этого сочинения содержится в поздней статье поэта «Александр Радищев»:
Гримм, странствующий агент французской философии, в Лейбциге застал русских студентов за книгою о Разуме и привез Гельвецию известие, лестное для его тщеславия и радостное для всей братии. Теперь было бы для нас непонятно, каким образом холодный и сухой Гельвеций мог сделаться любимцем молодых людей, пылких и чувствительных, если бы мы, по несчастию, не знали, как соблазнительны для развивающихся умов мысли и правила новые, отвергаемые законом и преданиями (XII, 31).
Среди исследователей статьи сложилось отношение к ней как к автобиографическому произведению; как об этом написал В. Э. Вацуро:
Некоторые ключевые эпизоды биографии Радищева проецированы Пушкиным на его собственную судьбу[205].
Увлечение Гельвецием, по мысли Пушкина, безусловно относится к числу ключевых эпизодов биографии Радищева. А об увлечении Гельвецием, которое имело место в пушкинской биографии, свидетельствует то, что слова, которые Пушкин отнес к Радищеву: «В нем все еще виден ученик Гельвеция. Он охотнее излагает, нежели опровергает доводы чистого афеизма», совпадали со словами из его собственного письма, предположительно П. А. Вяземскому: «Пишу пестрые строфы романтической поэмы — и беру уроки чистого афеизма» (XIII, 92). Именно за это изложение доводов в пользу «чистого афеизма» в перлюстрированном письме он был сослан в Михайловское. Правда, произошло это тремя годами позже, но именно на 1821 год приходится пик интереса Пушкина к творчеству и личности Радищева[206], которого Вяземский назвал «маленьким Гельвецием»[207].
В России Гельвеций воспринимался как создатель этической системы, основанной не на религии, а на представлении о том, что человеку «выгодно» быть нравственным[208]. Не случайно Ю. М. Лотман называет гельвецианскую мораль этикой «разумного эгоизма»[209]. Цель человеческой жизни, считал Гельвеций, состоит в достижении удовольствий, в том числе чувственных. При этом этические построения Гельвеция можно назвать еще и теорией разумного оптимизма, поскольку они предполагали возможность достижения личного счастья, совмещаемого с общественной пользой.
Своей этикой философ привлекал старших современников поэта, чье идейное формирование закончилось до начала Революции и которые, как И. П. Пнин, например, полагали, что в основе общечеловеческой морали должен лежать отнюдь не только страх перед Всевышним:
Я хочу, чтоб ты ‹человек› был ‹…› добрым человеком потому, что так велит природа, разум и бог, что порядок, общее благоустройство света, которого ты часть составляешь, того от тебя требуют[210].
Для тех же, чье мировоззрение сложилось под влиянием войн и революций начала XIX века, Гельвеций был чужд. К последним определенно относился К. Н. Батюшков:
Признаемся, — писал он в статье «Нечто о морали, основанной на философии и религии» (1815), — что смертному нужна мораль, основанная на небесном откровении, ибо она единственно может быть полезна во все времена и при всех случаях: она есть щит и копье доброго человека, которые не ржавеют от времени ‹…› Другие светские моралисты повторяли одни и те же мысли, или (например, Гельвеций) давали им обширнейшее распространение, но вечно ложное[211].
На раннем, просветительском этапе дворянского освободительного движения, хронологически совпадающем с периодом деятельности Союза Благоденствия (1818–1821), Гельвеций привлекал молодых радикалов своим утверждением возможности совместить борьбу за свободу общества с достижением личного счастья. Можно считать, что эти воззрения ушли из общества вместе с оптимизмом Просвещения, но в самом начале 1820-х годов интерес к Гельвецию сохранялся, хотя и доживал последние дни. Об этом вспоминал И. В. Киреевский в письме А. И. Кошелеву, датированном 1832 годом:
О Гельвеции, я думаю, я был бы такого же мнения, как и ты, если бы прочел его теперь. Но лет десять назад он произвел на меня совсем другое действие. Признаюсь тебе, что тогда он казался мне не только отчетливым, ясным, простонародно-убедительным, но даже нравственным, несмотря на проповедование эгоизма. Эгоизм этот казался мне только неточным словом, потому что под ним могли разуметься и патриотизм, и любовь к человечеству, и все добродетели. К тому же мысль, что добродетель для нас не только долг, но еще счастье, казалась мне отменно убедительною в пользу Гельвеция. К тому же пример его собственной жизни противоречил упрекам в безнравственности

Как наследие русского символизма отразилось в поэтике Мандельштама? Как он сам прописывал и переписывал свои отношения с ним? Как эволюционировало отношение Мандельштама к Александру Блоку? Американский славист Стюарт Голдберг анализирует стихи Мандельштама, их интонацию и прагматику, контексты и интертексты, а также, отталкиваясь от знаменитой концепции Гарольда Блума о страхе влияния, исследует напряженные отношения поэта с символизмом и одним из его мощнейших поэтических голосов — Александром Блоком. Автор уделяет особое внимание процессу преодоления Мандельштамом символистской поэтики, нашедшему выражение в своеобразной игре с амбивалентной иронией.

Виктор Гюго — имя одновременно знакомое и незнакомое для русского читателя. Автор бестселлеров, известных во всём мире, по которым ставятся популярные мюзиклы и снимаются кинофильмы, и стихов, которые знают только во Франции. Классик мировой литературы, один из самых ярких деятелей XIX столетия, Гюго прожил долгую жизнь, насыщенную невероятными превращениями. Из любимца королевского двора он становился политическим преступником и изгнанником. Из завзятого парижанина — жителем маленького островка. Его биография сама по себе — сюжет для увлекательного романа.
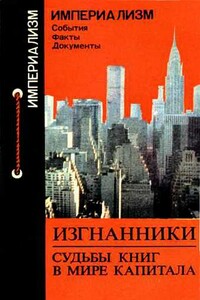
Очерки, эссе, информативные сообщения советских и зарубежных публицистов рассказывают о судьбах книг в современном капиталистическом обществе. Приведены яркие факты преследования прогрессивных книг, пропаганды книг, наполненных ненавистью к социалистическим государствам. Убедительно раскрыт механизм воздействия на умы читателей, рассказано о падении интереса к чтению, тяжелом положении прогрессивных литераторов.Для широкого круга читателей.
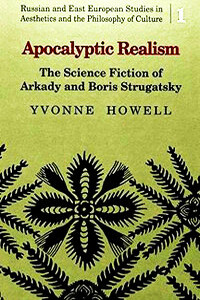
Данное исследование частично выполняет задачу восстановления баланса между значимостью творчества Стругацких для современной российской культуры и недополучением им литературоведческого внимания. Оно, впрочем, не предлагает общего анализа места произведений Стругацких в интернациональной научной фантастике. Это исследование скорее рассматривает творчество Стругацких в контексте их собственного литературного и культурного окружения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.