Птаха над гнездом Том 1. Дарители жизни - [8]
И вот настало время испытаний. Для Якова Алексеевича остались позади недолгое участие в боях, окружение и плен, болезнь после возвращения из концлагеря. Настала поздняя осень. В селе свирепствовали оккупанты, охочие до «курок» и «яек», до сала и меда. Наличествующие продукты они вольно изымали, для порядка припугнув хозяев. Но ведь хорошего всегда мало. Так получилось, что только вчера у Якова Алексеевича забрали все «яйки», переполовинили «курок», а сегодня снова явились попрошайки, уже другие.
— Курки, яйки есть? — произнес один из них заученную фразу.
— Нет ничего, — развел руками хозяин. — Только вчера вашим людям последнее отдали.
— А-а последнее… — двусмысленно протянул немец, дескать, не ври. — Не последнее. Где остальное?
— Нет ничего, — повторил Яков Алексеевич. — Ищите сами.
Немцы порылись по закромам и ничего не наши, тогда они сняли с гнезда одну несушку и направились к выходу со двора. За воротами их окликнула убежавшая от греха подальше Ефросинья Алексеевна.
— Иди сюда, — поманила она немцев крючковатым пальцем.
Немцы подошли:
— Что мама хочет?
— Обманул он тебя.
— Обмануль? Что есть обмануль?
И Ефросинья Алексеевна в доступных словах растолковала врагам, что ее зять закопал в палисаднике посуду с медом.
Немцы вернулись во двор, конечно, выкопали и забрали мед. Если бы только этим обошлось. Так нет же — Якова Алексеевича завели за угол сарая и высекли.
— Эх, мама… — только и сказал он после экзекуции, когда немцы ушли. — Зачем вы так?
— А ты не ври…
— Больная она, Яша, — проговорила Евлампия Пантелеевна. — Все, Яша, отныне помни об этом и делай все с оглядкой.
О том, что во время войны старая сельская повивальная бабка уже не владела здравым рассудком, говорит и такой случай.
Войдя в Славгород, немцы первым делом принялись расквартировываться, для чего выбирали дома более новые и просторные. Высокий аккуратный дом Якова Алексеевича бросался в глаза еще и тем, что он единственной в селе стоял под вальмовой крышей из жести. На момент прихода немцев мужчины были на фронте и в доме оставались только женщины: Ефросинья Алексеевна, Евлампия Пантелеевна, Прасковья Яковлевна и ее маленькая дочка, которой едва исполнился год. Захватчики выгнали их из дома и заняли его сами.
Пришлось женщинам поселиться в сарае, чтобы не спускать с глаз домашнее хозяйство. Хорошо, что Прасковья Яковлевна умела делать всю сельскую работу, даже мужскую, и хорошо, что ее отец выстроил просторный и высокий сарайчик, похожий на времянку. Из остатков битого кирпича, сваленного горкой у межи с северной стороны дома, Прасковья Яковлевна в несколько дней соорудила в сарае печку с теплым простенком и лежанкой и вывела на крышу дымарь. Конечно, кладку делала на глине с песком, но для легкого обогрева этого хватало. На лежанке сделали спальное место для бабушки Ефросиньи, а сами жались у простенка. Так и жили. Бежавший из плена Яков Алексеевич похвалил дочку за находчивость и ловкость в работе.
— Перезимуем так, — не чувствуя в себе сил что-то улучшать, сказал он. — А весной подправим, если что.
Так и жили.
И вот как-то зимним утром Евлампия Пантелеевна попросила свою мать отнести в дом к немцам охапку дров и растопить там печку, поскольку их обязали обслуживать постояльцев.
— Шнель, шнель! — поторапливали немцы женщин, показывая, что хотят побриться и умыться теплой водой, которую предстояло еще нагреть.
— Сейчас, ироды, — ворчала Евлампия Пантелеевна. — Чего гавкаете не по-человечески? — Она вообще любила ругать их и называть оскорбительными словами, но ей это сходило с рук. То ли немцы слов этих не понимали, то ли не шибко прислушивались.
Ефросинья Алексеевна, не потерявшая силы и проворности в движениях, согласилась помочь дочери и быстро выполняла ее поручения. Вдруг минут через десять-пятнадцать после этого у старушки открылась тяжелая рвота. Она заскочила за сарай, остановилась у стены со стороны погреба, где ее не видно было, и согнулась пополам.
— Что случилось? — недоумевала подошедшая к ней Евлампия Пантелеевна. Но Ефросинью Алексеевну буквально выворачивало наизнанку, так что она и слова сказать не могла, только показывала на свой рот. Это можно было трактовать и как просьбу дать попить и как попытку сказать, что она не в состоянии говорить. Короче, Евлампия Пантелеевна растерялась.
Скоро к ним подбежал и Яков Алексеевич. Корчившуюся в пароксизмах Ефросинью Алексеевну поддерживали под руки, пока ее желудок бунтовал, а потом завели в жилище, положили на ее место. Она вроде немного пришла в себя, хотя начала жаловаться на боли в животе.
Но вот во дворе послышать крики и немецкая ругань.
— Там еще что такое? Кто это верещит? — досадливо поморщился Яков Алексеевич.
— Постоялец наш злится, — констатировала Евлампия Пантелеевна. — А чтоб его подняло да брякнуло, паразита!
Ефросинья Алексеевна махнула рукой — попросила наклониться к ней, не скрывая виноватого вида.
— Это я натворила, — тихо прошептала она, когда Евлампия Пантелеевна поднесла ухо к ее устам.
— Что вы сделали, мама?
— Выпила его марганцовку, — прошептала старушка. — Он приготовил для умывания после бритья, а сам вышел. Я и выпила.

Воспоминания о детстве, которое прошло в украинском селе. Размышления о пути, пройденном в науке, и о творческом пути в литературе. Рассказ об отце-фронтовике и о маме, о счастливом браке, о друзьях и подругах — вообще о ценностях, без которых человек не может жить.Книга интересна деталями той эпохи, которая составила стержень ХХ века, написана в искреннем, доверительном тоне, живым образным языком.
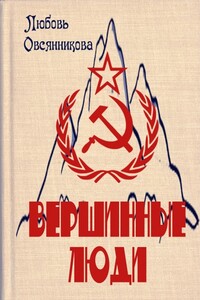
В новой книге из цикла «Когда былого мало» автор показывает интересно прожитую жизнь любознательного человека, «путь, пройденный по земле от первых дней и посейчас». Оглядываясь, она пытается пересмотреть его. Говоря ее же словами — «так подвергаются переоценке и живот, и житие, и жизнь…»Это некое подобие «Тропика Рака», только на наш лад и нашего времени, это щедро отданный потомкам опыт, и в частности — опыт выживания в период перехода от социализма и перестройки к тому, что мы имеем сейчас.

Случай — игрок ее величества судьбы… Забавляется, расставляет невидимые сети, создает разные ситуации, порой фантастические — поймает в них кого-нибудь и смотрит, что из этого получится. Если они неблагоприятны человеку, то у него возникнут проблемы, в противном разе ему откроются перспективы с лучшим исходом. И коль уж игра касается нас, как теннис мячика, то остается одно — преодолевать ее, ежечасно превращая трудности в шанс, ибо это судьба играет, а мы-то живем всерьез.Книга о ситуациях в жизни героини, где чувствовался аромат мистики.

Неожиданный звонок возвращает женщину, давно отошедшую от активной деятельности, к общению со старыми знакомыми, ввергает в воспоминания доперестроечного и перестроечного периода. И выясняется, что не все, о ком она сохранила хорошую память, были ее достойны. Они помнили свои прегрешения и, кажется, укорялись ими.Но самое интересное, что Зоя Михайловна, вызвавшая рассказчицу на встречу, не понимает, для чего это сделала и кто руководил ее поступками.Зачем же это случилось? Каков итог этих мистификаций?Впервые рассказ был опубликован под псевдонимном Сотник Л.
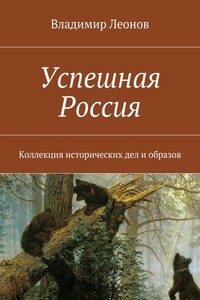
Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».

«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.
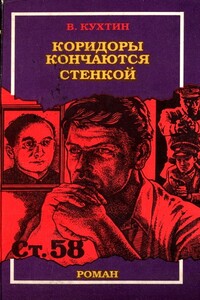
Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


