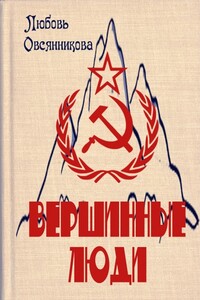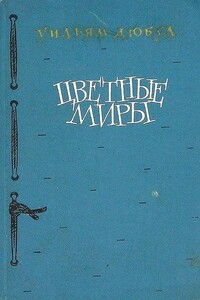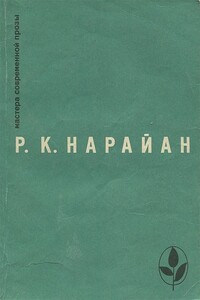1. Наперсник катаний с горок
Долго я думала, писать о моем Барсике или нет — песик все-таки, не человек. И вдруг наравне с людьми он станет фигурировать в ряду друзей… Хорошо ли это? А потом отбросила сомнения и решилась писать, потому что другом он был верным и неизменным и своим правильным с любой точки зрения существованием учил меня добру и честности, сдержанной нелукавости и даже отваги.
Было мне лет пять, когда мы его отобрали из новых кутят, произведенных на свет приятной собачонкой нашего соседа — деда Полякова. Правда, далековато от нас он жил — в конце улицы, почти у самой речки Осокоревки, и как уж отцу стало известно о его щенках — не знаю. Но знаю одно — отец не был большим любителем домашних животин, даже порой, наоборот, бывал жестокосердным с ними, покрикивал, как будто мешали они ему, раздражали. Скупо отдавал им внимание и заботу — не любил этого.
И то сказать — война, бои, плен, немецкие овчарки… Разве это можно забыть? Звуки собачьего лая еще долго-долго после войны вряд ли радовали тех, кто изведал ужасы немецкого ада.
Сколько я помню, а память у меня развилась рано, до этого собак у нас не было — с той поры как немцы выбили их всех по миру из ненависти к живому, так, видимо мои родные их и не заводили. Мама рассказывала, что наши обыкновенные дворняжки, которые умнее всех иных пород, даже без дрессировок и специальных воспитаний люто ненавидели немцев, как будто понимали, что это вредные человечеству существа. А что могли сделать дворняжки? Лаяли только, искренне и отчаянно, — предупреждали людей об опасности. Зато уж лаяли от души — так трещали-лящали, что в ушах звенело.
Так что если уж отец решился завести да терпеть во дворе щенка, то исключительно ради меня. Видимо, умом-то понимал полезность общения с животными для человека, вопреки своей натуре.
И вот мы принесли домой этот живой комочек — невиданное мной доселе создание, бесконечно милое и ласковое, беззащитное и доверчивое. Уж так потешно оно тыкалось носиком в меня, так старательно кряхтело, когда я брала его на руки, что сердце млело от нежности. Оно сразу подняло во мне волну тонких и прекрасных чувств, возможно, не скоро бы возникших без него. Назвали мы его Барсиком.
Щенок рос неприхотливым, ел то, что давали, вилял из благодарности хвостиком, улыбался, двигая надбровьями. И показывал нам язычок.
Вскоре он попробовал задействовать свои голосовые связки и начал осваивать лай. Трудно ему это давалось, ведь учиться-то не у кого было. Помню, как он брал первые ноты, вытягивая головку вверх, когда к нам пришел дядя Ваня. Он катался шариком вокруг него и звенел совершенно детскими агуками, уморительно старательными. Нашей растроганности не было предела.
— Ну вот, — сказал отец, — теперь у нашей дочки есть охранник. И ее можно отпускать с ним на улицу.
Так с появлением Барсика мама вздохнула свободнее и впредь занималась своими делами, не держа постоянно глаз на мне. Да и мне стало лучше, потому что я бродила по усадьбе, залазила в гущи межевых посадок, взбиралась на кучу кирпичных обломков, что громоздилась с тыльной стороны дома, не преследуемая больше возбранными окриками.
И на улицу выходила, конечно. Сначала робко, потом смелее, потом даже углубилась в лежащий против наших ворот проулок — при всей его просторности машины по нему не ездили, так что он был раздолен для гуляний и безопасен. И таил в себе соблазн, ибо через два с половиной квартала приводил ровнехонько к Дроновой балке с ее знаменитыми зимними катками.
К зиме мой верный Барсик подрос, стал не таким толстеньким, каким был в своем детстве, поднялся на стройные тонкие ножки, превратился в поджарого и по-своему стройного красавца. Шерстью он обладал короткой, что придавало ему дополнительной грации. Он добросовестно бегал вокруг меня, обнюхивал землю, когда я куда-то шла, словно определял меру безопасности дороги.
Настала зима, запорошили первые метели. Барсик здорово растерялся. Однажды принюхавшись к снегу, он попробовал его на вкус, облизался, потерял к нему интерес и заскучал.