Психодиахронологика - [8]
2.2.6. Изнеможение от любви, сексуальная опустошенность составляют для Пушкина предмет описания, равноценный половому акту: «Лобзай меня: твои лобзанья Мне слаще мирра и вина. Склонись ко мне главою нежной, И да почию безмятежный…» («В крови горит огонь желанья…», II-1, 442).
2.2.7. Когда в пушкинской поэзии лирический субъект без каких бы то ни было оговорок рисуется как воплощающий собой вожделение и тем пробуждающий встречное желание у женщин (например, в послании «Юрьеву»: «Я нравлюсь юной красоте Бесстыдным бешенством желаний», II-1, 139–140), тогда фоном к, этому оказывается обращение к alter ego, к другу, который отвергает любовь, полностью бесстрастен и в этом бесстрастии достигает высшего счастья: «Пускай желаний пылких чужд, Ты поцелуями подруг Не наслаждаешься <…> И счастлив ты своей судьбой» (II-1,139).
2.2.8. Наконец, еще один вид счастливой любви в лирике Пушкина — это соблазнение возлюбленной поэтическим творчеством, находящим в женщине эротический отклик: «…мои стихи, сливаясь и журча, Текут, ручьи любви, текут полны тобою <…> и звуки слышу я: Мой друг, мой нежный друг… люблю… твоя… твоя!..» («Ночь», II-1, 289). Сублимирование сексуальности у одного из партнеров десублимируется вторым. Реальное чувство приходит в ответ на эстетизированную эмоцию. Поэтическое, искусное подменяет собой мужское, телесное (ср. сублимационную тему в послании «Жуковскому» = «Когда к мечтательному миру…»: «Блажен, кто знает сладострастье Высоких мыслей и стихов», II-1, 59).
2.3. Итак, любовь в поэзии Пушкина либо наталкивается на препятствие (2.1), либо, если она успешна, изображается в совмещении с каким-либо аннулированием любви[27]: доступность женщины тогда оборачивается фикцией (2.2.1); сменяет собой случившуюся было потерю сексуального объекта (2.2.2); имеет ненадежный характер (2.2.3); отодвигается в будущее, пусть и ближайшее (2.2.4); достигает высшей точки вопреки тому, что у возлюбленной нет воли к физической близости (2.2.5); утомляет мужчину (2.2.6); представляет собой мотив, который сочетается в тексте с прямо противоположным ему мотивом отказа от обладания женщиной (2.2.7); следует из того, что лирический субъект олитературил свою страсть (2.2.8)[28].
Некоторые эротические стихотворения Пушкина могут показаться при беглом чтении полностью лишенными следов кастрационного страха. Таково, в частности, «Торжество Вакха», утверждающее ничем не ограниченную всеобщую половую свободу. Однако метафорика этого текста не оставляет сомнения в том, что и здесь Эрос исподволь подвергается аннулированию. Пушкин (архетипическим образом) уравнивает любовь с битвой (= смертью)[29]: «Поют неистовые девы; Их сладострастные напевы В сердца вливают жар любви <…> Эван, эвое! Дайте чаши! Несите свежие венцы! Невольники, где тирсы наши? Бежим на мирный бой, отважные бойцы!» (II-1, 55). Метафорическое тождество любви и смерти — один из инвариантов пушкинской лирики: «Мы же — то смертельно пьяны, То мертвецки влюблены» («Из письма к Вульфу», II-1, 321). Сама чрезмерность эротического возбуждения в «Торжестве Вакха» имеет кастрационное значение: личность, подвластная кастрационному комплексу, нуждается, дабы приблизить себя к сексуальному объекту, в экзальтации, в самозабвении, вызываемом опьянением и участием в коллективных действиях.
3. Кастрационная логика
3.1.1. Характер, берущий начало в кастрационном комплексе, распространяет (как и любой прочий психотип) свои особенности на окружение — мыслит всякую признаковость в виде преобразуемой в беспризнаковость. Кастрационный характер строит модель мира, подчиненную логике иррефлексивности[30], согласно которой предметы не тождественны самим себе: х ≠ х, т. е. х = ((х) & (-х)).
Для опознания литературного текста в качестве реализации кастрационного комплекса вовсе не обязательно, чтобы в произведении имелся персонаж, карающий другого персонажа за совершение того или иного эротического действия.
Такого рода наказание, впрочем, регулярно встречается в творчестве Пушкина. Вспомним хотя бы сюжет «Цыган», смерть Дон Гуана от руки ожившей Статуи в «Каменном госте»[31], арест Гринева в «Капитанской дочке» за посещение им лагеря мятежников, побужденное любовью, покупку тела Клеопатры ценою жизни в «Египетских ночах» или отсекание бороды у похитителя невесты в «Руслане и Людмиле», которое соблазнительно трактовать как ближайшую символизацию оскопления, замещающую первичные половые признаки вторичным. В неподцензурной поэзии («Гавриилиада») наказание кастрацией за половой акт изображается без обиняков, т. е. минуя запреты, которыми Über-Ich облагает художественное творчество:
(IV, 133)
Однако в тех обстоятельствах, когда кастрационный характер доминирует в культуре, когда он возлагает на себя ответственность за ту новую форму, в какой культура выражается, когда происходит экспансия кастрационной фантазии, он не вправе ограничиться лишь в наибольшей степени соответствующим ему построением текстов, а именно таким, которое несло бы в себе идею преступности и наказуемости полового акта. В роли культурогенного кастрационный характер обязан переосмыслить на свой лад по возможности все трансисторическое содержание мировой литературы, в том числе даже, как мы старались показать, мотив счастливой, результативной любви. Чтобы исполнить культуропорождающую миссию, психотип, фиксированный на кастрационном страхе, преобразует по законам кастрационной логики то, что прежде ей не было подвластным, и превращает

Что такое смысл? Распоряжается ли он нами или мы управляем им? Какова та логика, которая отличает его от значений? Как он воплощает себя в социокультурной практике? Чем вызывается его историческая изменчивость? Конечен он либо неисчерпаем? Что делает его то верой, то знанием? Может ли он стать Злом? Почему он способен перерождаться в нонсенс? Вот те вопросы, на которые пытается ответить новая книга известного филолога, философа, культуролога И.П. Смирнова, автора книг «Бытие и творчество», «Психодиахронологика», «Роман тайн “Доктор Живаго”», «Социософия революции» и многих других.

Подборка около 60 статей написанных с 1997 по 2015 ггИгорь Павлович Смирнов (р. 1941) — филолог, писатель, автор многочисленных работ по истории и теории литературы, культурной антропологии, политической философии. Закончил филологический факультет ЛГУ, с 1966 по 1979 год — научный сотрудник Института русской литературы АН СССР, в 1981 году переехал в ФРГ, с 1982 года — профессор Констанцского университета (Германия). Живет в Констанце (Германия) и Санкт-Петербурге.

В книге профессора И. П. Смирнова собраны в основном новые работы, посвященные художественной культуре XX века. В круг его исследовательских интересов в этом издании вошли теория и метатеория литературы; развитие авангарда вплоть до 1940–1950-х гг.; смысловой строй больших интертекстуальных романов – «Дара» В. Набокова и «Доктора Живаго» Б. Пастернака; превращения, которые претерпевает в лирике И. Бродского топика поэтического безумия; философия кино и самопонимание фильма относительно киногенной действительности.
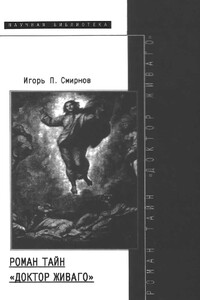
Исследование известного литературоведа Игоря П. Смирнова посвящено тайнописи в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» Автор стремится выявить зашифрованный в нем опыт жизни поэта в культуре, взятой во многих измерениях — таких, как история, философия, религия, литература и искусство, наука, пытается заглянуть в смысловые глубины этого значительного и до сих пор неудовлетворительно прочитанного произведения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Однажды Пушкин в приступе вдохновения рассказал в петербургском салоне историю одного беса, который влюбился в чистую девушку и погубил ее душу наперекор собственной любви. Один молодой честолюбец в тот час подслушал поэта…Вскоре рассказ поэта был опубликован в исковерканном виде в альманахе «Северные цветы на 1829 год» под названием «Уединенный домик на Васильевском».Сто с лишним лет спустя наш современник писатель Анатолий Королев решил переписать опус графомана и хотя бы отчасти реконструировать замысел Пушкина.В книге две части – повесть-реконструкция «Влюбленный бес» и эссе-заключение «Украденный шедевр» – история первого русского плагиата.
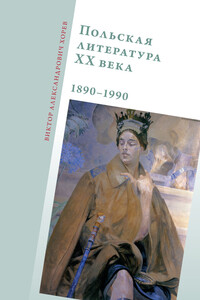
«…В XX веке Польша (как и вся Европа) испытала такие масштабные потрясения, как массовое уничтожение людей в результате кровопролитных мировых и локальных войн, а также господство тоталитарных систем и фиаско исторического эксперимента – построения социализма в Советском Союзе и странах так называемого социалистического лагеря. Итогом этих потрясений стал кризис веры в человеческий разум и мораль, в прогрессивную эволюцию человечества… Именно с отношением к этим потрясениям и, стало быть, с осмыслением главной проблемы человеческого сознания в любую эпоху – места человека в истории, личности в обществе – и связаны, в первую очередь, судьбы европейской культуры и литературы в XX в., в том числе польской».
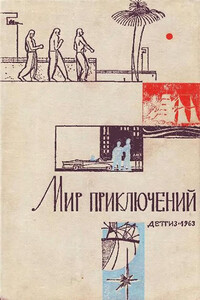
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
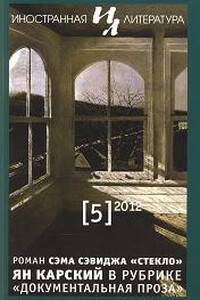
Статья Дмитрия Померанцева «Что в имени тебе моем?» — своего рода некролог Жозе Сарамаго и одновременно рецензия на два его романа («Каин» и «Книга имен»).

В первый раздел тома включены неизвестные художественные и публицистические тексты Достоевского, во втором разделе опубликованы дневники и воспоминания современников (например, дневник жены писателя А. Г. Достоевской), третий раздел составляет обширная публикация "Письма о Достоевском" (1837-1881), в четвёртом разделе помещены разыскания и сообщения (например, о надзоре за Достоевским, отразившемся в документах III Отделения), обзоры материалов, характеризующих влияние Достоевского на западноевропейскую литературу и театр, составляют пятый раздел.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.