Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [заметки]
1
Anno 1646 (лат.) – в год 1646.
2
Имя «Кощей» (или «Кащей») предположительно происходит от тюркского слова, означающего «пленник, раб» (то есть, по старинному представлению, человек уже не вполне живой, однако услугами которого можно пользоваться. Не говоря уж о том, что его можно принести в жертву). Недаром Кощей в начале сказки часто висит «на двенадцати цепях прикован». При восприятии этого имени, конечно, включается и «народная этимология»: Кощей – это тот, кто из одних костей, костяной.
3
«Рабское подобострастие» – один из признаков двойника-антипода. Ведь он тень героя: куда герой, туда и он. И оно же является одним из традиционных признаков чёрта (чёрт – лакей: Мефистофель служит Фаусту в этом мире – с тем чтобы Фауст служил ему в загробном царстве). Лакеем предстает чёрт в романе Достоевского «Братья Карамазовы» («Нет, я никогда не был таким лакеем! Почему же душа моя могла породить такого лакея, как ты?»), лакеем в том же романе является и Смердяков («На скамейке у ворот сидел и прохлаждался вечерним воздухом лакей Смердяков, и Иван Федорович с первого взгляда на него понял, что и в душе его сидел лакей Смердяков и что именно этого-то человека и не может вынести его душа»).
4
«Ночные бдения» Бонавентуры (1805) – анонимное немецкое романтическое сочинение.
5
Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt,
darin die Augenäpfel reiften. Aber
sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber,
in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt,
sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug
der Brust dich blenden, und im leisen Drehen
der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen
zu jener Mitte, die die Zeugung trug.
Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz
unter der Schultern durchsichtigem Sturz
und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle;
und bräche nicht aus allen seinen Rändern
aus wie ein Stern: denn da ist keine Stelle,
die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern.
6
В фильме Лаура говорит о Петрарке, о том, что его Музу звали также Лаура и что Патерсон, таким образом, имеет с Петраркой много общего.
7
Доклад, сделанный в Доме-музее Бориса Пастернака в Переделкине в октябре 2014 года.
8
Изида (Исида) – первоначально египетская богиня, олицетворяющая плодородие Нильской долины. С распространением ее культа за пределы Египта ее постепенно отождествляют с самыми разнообразными божествами, и, наконец, в глазах своих многочисленных почитателей она становится верховной владычицей всего сущего.
9
«В свете есть такие ль дива? / Вот идет молва правдива: / За морем царевна есть, / Что не можно глаз отвесть: / Днем свет Божий затмевает, / Ночью землю освещает, / Месяц под косой блестит, / А во лбу звезда горит. / А сама-то величава, / Выступает, будто пава; / А как речь-то говорит, / Словно реченька журчит».
10
В переводе Григория Кружкова: «Зову таинственного пришлеца, / Который явится сюда, ступая / По мокрому песку, – схож, как двойник, / Со мной, и в то же время – антипод, / Полнейшая мне противоположность; / Он встанет рядом с этим чертежом / И все, что я искал, откроет внятно, / Вполголоса – как бы боясь, чтоб галки, / Поднявшие базар перед зарей, / Не разнесли по миру нашей тайны».
11
Ego dominus tuus – «Я твой повелитель» (лат.). Название стихотворения Йейтса отсылает к «Новой жизни» Данте – к тому месту, где поэту является Дух любви: «И в размышлении о ней охватил меня сладкий сон, в котором явилось мне дивное видение: казалось мне, будто вижу я в своей комнате облако огненного цвета, за которым я различил облик некоего мужа, видом своим страшного тому, кто смотрит на него; сам же он словно бы пребывал в таком веселии, что казалось это удивительным; и в речах своих он говорил многое, из чего лишь немногое я понял, а среди прочего понял такие слова: “Ego dominus tuus”. На руках его словно бы спало нагое существо, лишь легко прикрытое, казалось, алой тканью; и, вглядевшись весьма пристально, я узнал Донну поклона, которая за день до того удостоила меня этого приветствия».
12
Сравните с тем, как австрийский психиатр и психолог Виктор Франкл в книге «Человек в поисках смысла» (1946) описывает охватившее его чувство осмысленности жизни (в концентрационном лагере!): «В другой раз мы работали в траншее. Был серый рассвет; серым было небо над нами, серым был снег в бледном свете хмурого утра; серыми были наши лохмотья, и серыми были наши лица. Я снова молча разговаривал со своей женой, а может, я пытался найти смысл моих страданий, моего медленного умирания. В последнем яростном протесте против безнадежности и неминуемой смерти я почувствовал, как мой дух прорывается через окутывающий все мрак. Я чувствовал, как он переступает через границы этого бессмысленного мира, и откуда-то я услышал победное “Да” в ответ на мой вопрос о существовании конечной цели. В этот момент зажегся свет в окне далекого домика, будто нарисованного на горизонте, среди серости раннего баварского утра. “Et lux in tenebis lucet” – и свет засиял в темноте. Часами я стоял, врубаясь в ледяную землю. Прошел мимо охранник, осыпая меня оскорблениями. Я опять стал общаться со своей любимой. Я все больше и больше чувствовал ее присутствие рядом со мной, казалось, что я могу дотронуться до нее, протянуть руку и сжать ее руку. Чувство было очень сильным: она была тут. И в это мгновение птица тихо слетела вниз и села прямо передо мной, на кучу накопанной мной земли, и пристально посмотрела на меня». Жена в этом тексте предстает источником жизни. Будучи «хозяйкой зверей и птиц», она посылает герою птицу. (Жена Франкла к этому времени уже погибла в концлагере, но он об этом еще не знает.)
13
Эта Муза явилась Линчу в детстве: «Обычно мой отец выходил и звал нас с братом, когда пора было идти домой. Однажды осенним вечером, было уже довольно поздно… Не помню, что мы делали, но через улицу от нас из темноты вдруг возникла, словно странный сон, голая женщина. Я никогда раньше не видел голой женщины. У нее была красивая белая, бледная кожа. Она была абсолютно голая, и, по-моему, ее губы были в крови… Она казалась каким-то великаном, все приближалась и приближалась, мой брат расплакался. С ней что-то было очень не так. Не знаю, что с ней случилось, но она села на бордюр и заплакала. Это всё было очень загадочно, будто мы наблюдали нечто потустороннее. Я хотел чем-нибудь ей помочь, но я был маленьким, я не знал, что делать. Больше я ничего не помню». Именно так изобразил эту «богиню» Линч в фильме «Синий бархат»: обнаженной женщиной с кровью на губах, выходящей в ночной город.
14
Гарсиа Лорка рассказал об этом так (в лекции «Цыганское романсеро»): «Скажу несколько слов об одной темной андалузской силе – об Амарго, кентавре ненависти и смерти. Мне было восемь лет, я играл у себя дома в Фуэнте-Вакеросе, и вдруг в окно заглянул мальчик – он показался мне великаном. В глазах его было столько презрения и ненависти, что мне не забыть их до смерти. Он плюнул в комнату и исчез. Голос издалека позвал: «Сюда, Амарго!» С тех пор Амарго жил и рос в моем воображении, и я даже, кажется, понял, почему он, ангел отчаянья и смерти, поставленный у врат Андалузии, так смотрел на меня. Как наваждение, он вошел в мои стихи. И сейчас я уже не знаю, видел ли я его или он привиделся мне, выдумал я его или он и вправду чуть было не задушил меня».
15
Амарго («era moreno y amargo» – «был смуглым и горьким» – «Песня матери Амарго») стал для Федерико олицетворением горечи жизни – жизни, сквозь которую просвечивает лунный свет смерти. Опорные образы поэзии Лорки связаны с Амарго-горечью: луна («Он на луне, мой Амарго» – «Песня матери Амарго»); терпкие или ядовитые растения и плоды: кислый лимон (к тому же желтый или желто-зеленый, как луна, – зелены, кстати сказать, и глаза Амарго) и ядовитый олеандр (оба – символы несчастливой любви), маслина (оливка) (рифмующаяся с луной: luna – aceituna), крапива и цикута; нож или ножи (а также кинжалы, шпаги, стрелы, змеи: «Так прощается с жизнью птица / Под угрозой змеиного жала. / О гитара, / Бедная жертва / Пяти проворных кинжалов!» – перевод Марины Цветаевой); наконец, вся цыганская тема Гарсиа Лорки (о поимке и убиении цыгана).
16
Если в стихотворении Рильке «Архаический торс Аполлона» на человека из любой точки устремлен взгляд («…ведь здесь нет ни единого места, которое бы тебя не видело»), то в стихотворении Гарсиа Лорки «Перекресток» на человека отовсюду устремлен нож (в переводе В. Парнаха, в подлиннике – кинжал):
Восточный ветер.
Фонарь и дождь.
И прямо в сердце
нож.
Улица —
дрожь
натянутого
провода,
дрожь
огромного овода.
Со всех сторон,
куда ни пойдешь,
прямо в сердце —
нож.
17
Сходство мадам Шоша с древними изображениями богинь подчеркнуто и зачарованным любованием Ганса ее руками: «…но руки Клавдии были обнажены до плеч – полные, нежные, вероятно прохладные, и такие белые на шелковисто-темном фоне платья, выделявшиеся так умопомрачительно, что Ганс Касторп невольно закрыл глаза и прошептал: “Господи!” <…>
– Внимательно гляди, – услышал словно издалека голос Сеттембрини Ганс Касторп, провожавший ее глазами, когда она устремилась к застекленной двери, чтобы выйти из столовой. – Она – Лилит.
– Кто? – удивился Ганс Касторп.
Литератор чему-то обрадовался. Он пояснил:
– Первая жена Адама. Берегись…»
18
Из сказки Андерсена «Снежная королева» (Снежная королева – тоже Изида, но именно в ипостаси богини смерти):
«А на дворе бушевала метель.
– Это роятся белые пчелки, – сказала старая бабушка.
– А у них есть королева? – спросил мальчик, потому что он знал, что у настоящих пчел она есть.
– Есть, – ответила бабушка. – Королева летает там, где снежный рой всего гуще; она больше всех снежинок и никогда не лежит подолгу на земле, а снова улетает с черной тучей. Иногда в полночь она летает по улицам города и заглядывает в окна, – тогда они покрываются чудесными ледяными узорами, словно цветами.
– Мы видели, видели, – сказали дети и поверили, что все это сущая правда.
– А может Снежная королева придти к нам? – спросила девочка.
– Пусть только попробует! – сказал мальчик. – Я посажу ее на раскаленную печку, и она растает.
Но бабушка погладила его по голове и завела разговор о другом.
Вечером, когда Кай вернулся домой и уже почти разделся, собираясь лечь в постель, он забрался на скамеечку у окна и заглянул в круглое отверстие в том месте, где оттаял лед. За окном порхали снежинки; одна из них, самая большая, опустилась на край цветочного ящика. Снежинка росла, росла, пока, наконец, не превратилась в высокую женщину, закутанную в тончайшее белое покрывало; казалось, оно было соткано из миллионов снежных звездочек. Женщина эта, такая прекрасная и величественная, была вся изо льда, из ослепительного, сверкающего льда, – и все же живая; глаза ее сияли, как две ясные звезды, но в них не было ни тепла, ни покоя. Она склонилась к окну, кивнула мальчику и поманила его рукой. Мальчик испугался и спрыгнул со скамеечки, а мимо окна промелькнуло что-то, похожее на огромную птицу».
19
Зюльт – крупный остров в Северном море.
20
Вспомним бушующую вьюгу в начале романа «Доктор Живаго», которая также предстает мифическим зверем: «Ночью Юру разбудил стук в окно. Темная келья была сверхъестественно озарена белым порхающим светом. Юра в одной рубашке подбежал к окну и прижался лицом к холодному стеклу.
За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода. На дворе бушевала вьюга, воздух дымился снегом. Можно было подумать, будто буря заметила Юру и, сознавая, как она страшна, наслаждается производимым на него впечатлением. Она свистела и завывала и всеми способами старалась привлечь Юрино внимание. С неба оборот за оборотом бесконечными мотками падала на землю белая ткань, обвивая ее погребальными пеленами. Вьюга была одна на свете, ничто с ней не соперничало».
21
Вот краткий рассказ об этом обряде посвящения из книги В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки», 1946): «Что такое посвящение? Это – один из институтов, свойственных родовому строю. Обряд этот совершался при наступлении половой зрелости. Этим обрядом юноша вводился в родовое объединение, становился полноправным членом его и приобретал право вступления в брак. Такова социальная функция этого обряда. Формы его различны, и на них мы еще остановимся в связи с материалом сказки. Формы эти определяются мыслительной основой обряда. Предполагалось, что мальчик во время обряда умирал и затем вновь воскресал уже новым человеком. Это – так называемая временная смерть. Смерть и воскресение вызывались действиями, изображавшими поглощение, пожирание мальчика чудовищным животным. Он как бы проглатывался этим животным и, пробыв некоторое время в желудке чудовища, возвращался, т. е. выхаркивался или извергался. Для совершения этого обряда иногда выстраивались специальные дома или шалаши, имеющие форму животного, причем дверь представляла собой пасть. Тут же производилось обрезание. Обряд всегда совершался в глубине леса или кустарника, в строгой тайне. Обряд сопровождался телесными истязаниями и повреждениями (отрубанием пальца, выбиванием некоторых зубов и др.). Другая форма временной смерти выражалась в том, что мальчика символически сжигали, варили, жарили, изрубали на куски и вновь воскрешали. Воскресший получал новое имя, на кожу наносились клейма и другие знаки пройденного обряда. Мальчик проходил более или менее длительную и строгую школу. Его обучали приемам охоты, ему сообщались тайны религиозного характера, исторические сведения, правила и требования быта и т. д. Он проходил школу охотника и члена общества, школу плясок, песен, и всего, что казалось необходимым в жизни».
22
А в «Песне песней» два голубя действительно означают глаза «возлюбленного»: «глаза его – как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве».
23
Шамаш – бог солнца.
24
Аруру – богиня-прародительница, одна из древнейших богинь шумеро-аккадского пантеона, создательница людей.
25
Урук – один из древнейших и крупнейших городов на самом юге Шумера.
26
Нинурта – бог войны.
27
Сумукан – бог-покровитель зверей.
28
Эллиль – бог воздуха и земли, верховный владыка всего, что находится между небом и Мировым океаном, на котором плавает земля.
29
А. А. Тахо-Годи пишет в энциклопедической статье «Диоскуры»: «Бессмертный Полидевк был взят Зевсом на Олимп, но из любви к брату уделил ему часть своего бессмертия, они оба попеременно в виде утренней и вечерней звезды в созвездии Близнецов являются на небе. <…> В Спарте Диоскуров почитали в виде архаических фетишей – двух крепко соединенных друг с другом бревен».
30
В изучении культа близнецов первопроходцем был Лев Яковлевич Штернберг (1862–1927). В статье «Античный культ близнецов при свете этнографии» (напечатана в книге «Первобытная религия в свете этнографии», 1936) он приводит следующий пример близнечной «звериности»: «Индейское племя квакиутл считает, что близнецы – это превратившиеся в людей лососи; поэтому их не пускают ходить близ воды, иначе они рискуют снова превратиться в рыб. Как бывшие лососи, близнецы дают своим земным сородичам изобилие рыбы. <…> Любопытно, что подобное воззрение по отношению к близнецам сохранилось даже у мусульманских народов. Среди арабского населения Египта до сих пор <…> живет поверье, что близнецы до 11–12 лет по ночам, если они голодны, бродят в образе кошек, в то время как тела их, как мертвые, остаются лежать дома».
31
Кроме того, матерью Ромула и Рема является весталка (а значит, непорочная дева) Рея Сильвия, зачавшая близнецов от бога Марса (бога растительности, бога дикой природы и всего неизвестного и опасного, находящегося за пределами поселения, а также бога войны). Примечательно, что имя «Рея» носит и мать олимпийских богов (в греческой мифологии).
32
Тиндариды – т. е. дети (формальные) Тиндарея (царя Спарты), супруга Леды.
33
О том же говорит и апостол Павел: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Послание к римлянам, 6:3–4).
34
«Вскоре после этого Том повстречался с юным парией Гекльберри Финном, сыном местного пьяницы. Все матери в городе от всего сердца ненавидели Гекльберри и в то же время боялись его, потому что он был ленивый, невоспитанный, скверный мальчишка, не признававший никаких обязательных правил. И еще потому, что их дети – все до одного – души в нем не чаяли, любили водиться с ним, хотя это было запрещено, и жаждали подражать ему во всем. Том, как и все прочие мальчишки из почтенных семейств, завидовал отверженному Гекльберри, и ему также было строго-настрого запрещено иметь дело с этим оборванцем. Конечно, именно по этой причине Том не упускал случая поиграть с ним. Гекльберри одевался в обноски с плеча взрослых людей; одежда его была испещрена разноцветными пятнами и так изодрана, что лохмотья развевались по ветру. Шляпа его представляла собою развалину обширных размеров; от ее полей свешивался вниз длинный обрывок в виде полумесяца; пиджак, в те редкие дни, когда Гек напяливал его на себя, доходил ему чуть не до пят, так что задние пуговицы помещались значительно ниже спины; штаны висели на одной подтяжке и сзади болтались пустым мешком, а внизу были украшены бахромой и волочились по грязи, если Гек не засучивал их. <…> Гекльберри был вольная птица, бродил где вздумается. В хорошую погоду он ночевал на ступеньках чужого крыльца, а в дождливую – в пустых бочках. Ему не надо было ходить ни в школу, ни в церковь, он никого не должен был слушаться, над ним не было господина. Он мог удить рыбу или купаться, когда и где ему было угодно, и сидеть в воде, сколько заблагорассудится. Никто не запрещал ему драться. Он мог не ложиться спать хоть до утра. Весной он первый из всех мальчиков начинал ходить босиком, а осенью обувался последним. Ему не надо было ни мыться, ни надевать чистое платье, а ругаться он умел удивительно. Словом, у него было все, что делает жизнь прекрасной. Так думали в Санкт-Петербурге все изнуренные, скованные по рукам и ногам “хорошо воспитанные” мальчики из почтенных семейств».
35
Например, в автобиографическом романе Юкио Мисима «Исповедь маски» (1949) герой вспоминает, как ему, пятилетнему мальчику, встретился золотарь – «символ земли»:
«Примерно к этому периоду относится мое первое, уже несомненное, воспоминание; его странная тень доставила мне немало страданий.
Я не помню, кто в тот день вел меня за руку – мать, няня, горничная или тетя. <…> Навстречу нам кто-то спускался, и моя провожатая, сильно потянув меня за ладонь, освободила проход. Мы остановились.
Эта картина бесчисленное количество раз воскресала в моей памяти, приобретая все новые и новые оттенки смысла, по мере того как я сосредоточенно размышлял над ней. Из всей сцены, мутной и размытой, мне совершенно ясно и отчетливо запомнилось лишь одно: этот кто-то, спускавшийся нам навстречу. Еще бы – ведь то было первое из видений, терзавших и преследовавших меня всю жизнь.
По улице спускался молодой парень. Через плечо он нес две деревянные бадьи для нечистот, голова его была обмотана грязным полотенцем, румяные щеки сияли свежестью, глаза ярко блестели. Парень ступал осторожно, чтобы не расплескать свой груз. Это был золотарь (дословно: «собиратель ночной земли». – И. Ф.). Он был одет в облегающие синие штаны и матерчатые рабочие тапочки. Я, пятилетний, смотрел на незнакомца во все глаза. Тогда впервые я ощутил притяжение некоей силы, таинственный и мрачный зов – хотя, конечно, и не мог еще уяснить значение произошедшего. То, что сила эта в первый раз предстала передо мной в облике золотаря, весьма аллегорично. Ведь нечистоты – символ земли. Эта сама Мать Земля поманила меня своей недоброй любовью.
Меня охватило предощущение того, что в мире есть страсти, обжигающие не меньше огня. Я смотрел на золотаря снизу вверх и вдруг подумал: “Хочу быть таким, как он”. И еще: “Хочу быть им”».
36
Смотрите также мою работу «Сущностная форма».
37
В романе Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит» Измаил теряет от ужаса дар речи, увидев татуировку туземца Квикега и «нечеловеческий цвет его лица», а также его голову: «лысая багровая голова была как две капли воды похожа на заплесневелый череп». А до этого хозяин гостиницы говорит Измаилу, что его сосед по номеру (гарпунщик, «смуглый молодой человек») еще не пришел, поскольку он, видимо, «никак не продаст свою голову», которая к тому же «проломана». Оказывается, что этот гарпунщик – туземец из Южных морей, бывший каннибал, что он «накупил целую кучу новозеландских бальзамированных голов (которые здесь ценятся как большая редкость) и распродал уже все, кроме одной: сегодня он хотел обязательно продать последнюю, потому что завтра воскресенье, а это уж неподходящее дело торговать человеческими головами на улицах, по которым люди идут мимо тебя в церковь». Похоже на то, что Квикег пришел без головы, а голову – ту самую, которую не удалось продать, – принес отдельно (он предстает перед Измаилом, «держа в одной руке свечу, а в другой – ту самую новозеландскую голову»). На плечах же у судьбоносного (для Измаила) гарпунщика – ненастоящая, мертвая голова – подобно той искусственной, что мы видим и у Хун-Ахпу.
38
В стихотворении Николая Заболоцкого «Футбол» (1926): «А шар вертится между стен, / Дымится, пучится, хохочет, / Глазок сожмет: “Спокойной ночи!” / Глазок откроет: “Добрый день!” / И форварда замучить хочет. <…> Открылся госпиталь. Увы! / Здесь форвард спит без головы».
Не использовалась ли голова жертвы в качестве обрядового мяча? «– Кажется, что это череп, но он всего лишь нарисован на мяче, – сказали обитатели Шибальбы». «Голова Хун-Ахпу же была помещена на стене площадки для игры в мяч. <…> – Ударь (или: брось) его голову, как будто она мяч, – говорили они (обитатели Шибальбы. – И. Ф.) Шбаланке».
В трагедии Еврипида «Вакханки» царь Пенфей вступает в борьбу со своим бессмертным двоюродным братом – Дионисом. Дионис выдает Пенфея менадам (предводительствуемым Агавой – матерью Пенфея и тетей Диониса) – и они его разрывают на части, приняв за льва: «…Стонал Пенфей несчастный. / Пока дышал, и ликований женских / Носились клики. Руку тащит та, / А та ступню с сандалией, и тело / Рвут, обнажив, менады и кусками, / Как мячиком, безумные играют… / Разбросаны останки по скалам / Обрывистым, в глубокой чаще леса… / Где их сыскать? А голову его / Победную Агава захватила / Обеими руками, и на тирс / Воткнула, – головой считая львиной». И звериную голову здесь видим, и растерзание на куски, и игру в мячик.
В английском стихотворном романе XIV века «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» Зеленый рыцарь бросает вызов, предлагая кому-либо из присутствующих рыцарей нанести ему удар (его же громадным боевым топором или секирой) при условии, что через год он на этот удар ответит своим ударом. Гавейн (племянник короля Артура) принимает вызов, берет у Зеленого рыцаря топор и отрубает ему голову. (Зеленый рыцарь не только этому не препятствует, но спешивается и подставляет шею.) Голова падает на пол, катится, что вызывает, разумеется, всеобщий смех. Рыцари успевают даже поиграть ею в некий футбол: “Þe fayre hede fro þe halce hit to þe erþe, / Þat fele hit foyned wyth her fete, þere hit forth roled” («Прекрасная голова с шеи упала на землю, так что многие ее отгоняли своими ногами, там она продолжала катиться»). Зеленый рыцарь, лишившись головы, преспокойно идет за ней, поднимает ее за волосы, садится обратно на коня. Голова отверзает уста и назначает Гавейну встречу: через год у Зеленой Часовни. Зеленая Часовня представляет собой зеленый холм (заросший травой), полый внутри, подобный пещере (так сказано в романе), с входом и выходом. Довольно типичное сооружение для прохождения обряда посвящения: подземный туннель.
39
«Я была холодна. Неслась стремительным потоком. Люди рождены для воды, холодной и мощной. В бездонных пучинах, на полях, на просторах белых равнин, среди звезд. Люди рождены для снега. Жить, а не засыпать, кричать, а не говорить шепотом, касаться руками, а не взглядом, литься потоком, а не едва струиться. Я вся – лед. И город мой – лед. И подданные мои – лед. Все, как один. Слово принцессы – закон».
40
Здесь виден териоморфный характер близнецов. Героиня-еврейка, неудовлетворенная ограниченностью, несвободой своей жизни, грезит о том, что она выпускает на свободу двух послушных ей террористов, которые разрушат эту ненастоящую жизнь.
41
Виктор Борисович Шкловский в книге «За и против. Заметки о Достоевском» (1957) пишет: «…история Мармеладова, принявшего жертву Сони, становится параллелью истории Раскольникова, потому что Раскольникову предлагается воспользоваться жертвой Дуни: сестра собирается идти замуж для того, чтобы помочь брату». Примечательно в этом смысле и то, что сначала Раскольников чуть не попадает под лошадей («Известно, пьяным представится да нарочно и лезет под колеса»), а затем Мармеладов действительно попадает («Он теперь, верно, пьяный, домой пробирался»).
42
Сравните с началом одного из стихотворений Вагинова примерно того же времени (начала тридцатых годов): «Он с юностью своей, как должно, распрощался / И двойника, как смерти, испугался».
43
В начале фильма Тарковского «Жертвоприношение» (1986) к главному герою (Александру) подъезжает на велосипеде почтальон Отто (хорошая профессия для двойника-антипода: письма в сумке – как души в мешке у чёрта). Отто кружит вокруг Александра на велосипеде. Велосипед гармонирует с двойническим именем (в которое словно вставлено зеркало: ОТ-ТО). В определенный момент Отто разговаривает с Александром через стекло (то есть выступает как его отражение). Отто – «хозяин судьбы» («В некотором роде я коллекционер. Я собираю события…»). Он посылает Александра к служанке Марии, по соседству с которой живет и которая в фильме представляет «источник жизни»: «– Ты должен сейчас же идти к Марии! <…> Это очень, очень важно! <…> Ты разве не хочешь, чтобы все это закончилось? <…> Ты должен пойти к Марии и лечь с ней! <…> Если ты загадаешь всего одно желание, чтобы всему этому пришел конец, то так оно и будет! Больше не будет ужаса! <…> Она обладает особыми качествами, я собрал доказательства. Она ведьма! – В каком смысле? – В хорошем смысле!» Отто одалживает Александру свой велосипед, на котором тот едет к Марии (по дороге падая между двух луж, – это падение рифмуется в фильме с двумя падениями Отто). У Марии, кстати сказать, тоже есть велосипед, и она на нем ездит в конце фильма. В результате взаимодействия Александра, Марии и Отто (то есть в результате реализации кодовой картинки) мир оказывается спасен (так, во всяком случае, представляется Александру).
44
Позже Андрею почудится, будто ему явился умерший Феофан, и Андрей расскажет ему свой сон о нем: «Феофан, ты же помер? Ты мне приснился. Будто из окна вниз головой свешиваешься, и заглядываешь, и пальцем мне грозишь. А я поперек седла на коне лежу, и два ордынца голову мне перекручивают. А ты смотришь – и пальцем в окошко стук-стук». С лестницы вниз головой будет свисать татарин, получив от Андрея удар топором (когда Андрей будет спасать от него «дурочку»). При этом мы сначала увидим свалившийся с татарина шлем.
45
Распущенные женские волосы часто символизируют воду.
46
«Солома – частый компонент родинного и погребального обряда: жизнь начинается и кончается на соломе…» (Н. И. Толстой в статье «Язычество древних славян»).
47
О значении этого жеста я подробно говорю в работе «Ладушки, ладушки…»
48
Джельсомина, между прочим, обладает даром предсказывать погоду – в частности, она предсказывает дождь: «Завтра будет дождь». – «Откуда ты знаешь?» – «Знаю, завтра будет дождь».
49
Ка-двойник – это душа человека, которая, в отличие от христианской души, по-своему материальна.
50
«Звериность» Пугачева подчеркивается в романе двумя эпиграфами к главам – из Сумарокова (сравнение со львом) и Хераскова (сравнение с орлом). Вот, например, эпиграф из Сумарокова:
В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп.
«Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» —
Спросил он ласково.
51
Есть в испанской традиции и другой вариант встречи дона Хуана с ожившим мертвецом – а именно встреча с говорящим черепом (который он пинает, «футболит»). Например, в народном романсе «Дон Хуан» (пер. Давида Самойлова): «К ранней мессе кабальеро / Шел однажды в Божий храм, / Не затем, чтоб слушать мессу, – / Чтоб увидеть нежных дам, / Дам, которые прекрасней / И свежее, чем цветы. / Но безглазый желтый череп / Оказался на пути. / Пнул ногой он этот череп, / Наподдал его ногой. / Зубы в хохоте ощерив, / Прянул череп, как живой. / “Я тебя к себе на праздник / Приглашаю ввечеру”. / “Ты не смейся, кабальеро, / Нынче буду на пиру”».
52
В стихотворении Николая Гумилева «Заблудившийся трамвай» (в котором есть прямые отсылки к «Капитанской дочке» – Машенька, Императрица…) герой заблудился – и слышит голос одушевленной бури, после чего появляется летящий трамвай-дракон (трамвай – распространенный символ смерти в литературе того времени).
Затем возникает двойник-антипод – с целым пучком своих признаков: «И, промелькнув у оконной рамы, / Бросил нам вслед пытливый взгляд / Нищий старик, – конечно тот самый, / Что умер в Бейруте год назад». Таких признаков в данной строфе шесть: промелькивание в оконной раме трамвая (оконная рама заменяет здесь традиционно способствующее появлению двойника зеркало); «пытливый взгляд» (пристальный, страшный взгляд, устремленный на героя, «дурной глаз»); «нищий» и «старик», причем связанный с Востоком (то есть сразу три признака); оживший мертвец.
Затем перед нами дом людоеда, пещера Полифема: «Вывеска… кровью налитые буквы / Гласят – зеленная, – знаю, тут / Вместо капусты и вместо брюквы / Мертвые головы продают». Эти строки заставляют вспомнить сказку Вильгельма Гауфа «Карлик Нос», в которой ведьма, купив на рынке (у матери героя) кочаны капусты, превращает их в головы.
Затем мы видим, как палач – безликий, с лицом одновременно животным и безглазым (три признака двойника-антипода: палач, животный, безликий) – проводит героя через смерть: «В красной рубашке, с лицом, как вымя, / Голову срезал палач и мне, / Она лежала вместе с другими / Здесь, в ящике скользком, на самом дне». Здесь просвечивает обряд коллективного посвящения (прохождение группы мальчиков через смерть). «Скользкий ящик» – не только скользкий от крови общий гроб, но и скользкое чрево поглотившего подростков зверя.
Возникает в стихотворении и Медный всадник, Петр Первый. У Гумилева этот оживший мертвец «летит» (как и трамвай-дракон в начале стихотворения): «И сразу ветер знакомый и сладкий, / И за мостом летит на меня / Всадника длань в железной перчатке / И два копыта его коня.»
53
Иван Иванович Зурин – это первая встреча Гринева, выехавшего на свою инициацию (на армейскую службу). Зурин «находится в Симбирске при приеме рекрут». Он обыгрывает шестнадцатилетнего юношу в Симбирском трактире (в бильярд), приобщает к алкоголю («повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без пуншу что и служба!») и к женскому обществу («поедем к Аринушке»). Роль жертвенного ножа у Зурина играет бильярдный кий, видим мы и халат – довольно обычное для двойника-антипода облачение: «Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах». В конце повести Гринев, увозя Машу из пугачевских мест, вновь встречает Зурина, и эта встреча для него спасительна:
«Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк. Майор метал. Каково было мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в Симбирском трактире!
– Возможно ли? – вскричал я. – Иван Иваныч! ты ли?
– Ба, ба, ба, Петр Андреич! Какими судьбами? Откуда ты? Здорово, брат. Не хочешь ли поставить карточку?»
То, что двойник-антипод предлагает герою игру, является довольно типичным его действием (ибо двойник-антипод есть олицетворение судьбы).
54
Швабрин ранит Гринева (как бы приносит его в жертву или невольно посвящает в рыцари). Кроме того, Гринев, нырнув в чужой ему мир русского бунта, в мир смерти, выходит невредимым (подобно Ивану в сказке Ершова «Конек-горбунок», ныряющему в кипящее молоко), а Швабрин погибает.
55
«И вытащил Святогор-богатырь / Илью Муромца из кармана / И стал его выспрашивать, / Кто он есть / И как попал к нему во глубок карман. / Илья ему сказал все по правде по истине. / Тогда Святогор жену свою богатырскую убил, / А с Ильей поменялся крестом / И называл меньшим братом. / Выучил Святогор Илью / Всем похваткам, поездкам богатырским; / И поехали они к Северным горам, / И наехали путем-дорогою на великий гроб, / На том гробу подпись подписана: / “Кому суждено в гробу лежать, / Тот в него и ляжет”».
После чего Святогор ложится в гроб, закрывает себя крышкой, а затем, сквозь щелочку дохнув на Илью Муромца «духом богатырским», передает ему свою силу. Подняв меч-кладенец Святогора, Илья уезжает «в раздольице чисто поле». Как видите, Святогор здесь – и мифический зверь, поглощающий героя, и двойник-антипод, осуществляющий обряд посвящения (проводящий героя через смерть).
56
«Черный мор» созвучен также с «Черной Грязью» и «рекой Смородиной», которые должен проехать Илья Муромец («Ехал мимо эту Грязь да мимо Черную, / Мимо славну реченку Смородину…»). «Реченька Смородина» – это река «смóрода» (то есть смрада), река гнили и смерти.
57
При этом Добрыне она является с двумя голубями, то есть с обычным сопровождением «богини жизни и смерти»: «А у молоды Марины Игнатьевны, / У нее на хорошем высоком терему / Сидят тут два сизые голубя, / Над тем окошком косящатым, / Целуются они, милуются, / Желты носами обнимаются».
58
«На краю дороги стоял дуб. Вероятно, в десять раз старше берез, составлявших лес, он был в десять раз толще и в два раза выше каждой березы. Это был огромный, в два обхвата дуб, с обломанными, давно, видно, суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками. С огромными своими неуклюже, несимметрично растопыренными, корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца.
“Весна, и любовь, и счастие! – как будто говорил этот дуб. – И как не надоест вам все один и тот же глупый, бессмысленный обман. Все одно и то же, и все обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинакие, и вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где ни выросли они – из спины, из боков; как выросли – так и стою, и не верю вашим надеждам и обманам”.
Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу, как будто он чего-то ждал от него. Цветы и трава были и под дубом, но он все так же, хмурясь, неподвижно, уродливо и упорно, стоял посреди их.
“Да, он прав, тысячу раз прав, этот дуб, – думал князь Андрей, – пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь, – наша жизнь кончена!” Целый новый ряд мыслей безнадежных, но грустно-приятных в связи с этим дубом возник в душе князя Андрея. Во время этого путешествия он как будто вновь обдумал всю свою жизнь и пришел к тому же прежнему, успокоительному и безнадежному, заключению, что ему начинать ничего было не надо, что он должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая».
59
«Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, въехал опять в ту березовую рощу, в которой этот старый, корявый дуб так странно и памятно поразил его. Бубенчики еще глуше звенели в лесу, чем месяц тому назад; все было полно, тенисто и густо; и молодые ели, рассыпанные по лесу, не нарушали общей красоты и, подделываясь под общий характер, нежно зеленели пушистыми молодыми побегами.
Целый день был жаркий, где-то собиралась гроза, но только небольшая тучка брызнула на пыль дороги и на сочные листья. Левая сторона леса была темна, в тени; правая, мокрая, глянцевитая, блестела на солнце, чуть колыхаясь от ветра. Все было в цвету; соловьи трещали и перекатывались то близко, то далеко.
“Да, здесь, в этом лесу, был этот дуб, с которым мы были согласны, – подумал князь Андрей. – Да где он?” – подумал опять князь Андрей, глядя на левую сторону дороги и, сам того не зная, не узнавая его, любовался тем дубом, которого он искал. Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого горя и недоверия, – ничего не было видно. Сквозь столетнюю жесткую кору пробились без сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвел их. “Да это тот самый дуб”, – подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна – и все это вдруг вспомнилось ему.
“Нет, жизнь не кончена в тридцать один год, – вдруг окончательно, беспеременно решил князь Андрей. – Мало того, что я знаю все то, что есть во мне, надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтобы не жили они так, как эта девочка, независимо от моей жизни, чтобы на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!”»
60
Подобное падение в себя, ныряние в «души живую влагу» играет чуть ли не главную роль в поэзии Ходасевича. Например, мы видим ее в стихотворении «Большие флаги над эстрадой», которое начинается падением («Большие флаги над эстрадой, / Сидят пожарные, трубя. / Закрой глаза и падай, падай, / Как навзничь – в самого себя»), а заканчивается возвращением на поверхность – с обновленным, как бы омытым ощущением мира («И с обновленною отрадой, / Как бы мираж в пустыне сей, / Увидишь флаги над эстрадой, / Услышишь трубы трубачей»).
61
Сравните: в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев» (в главе «Набег») мы видим в одной сцене падающую с укреплений лошадь (пытающуюся встать, а затем вновь падающую – уже окончательно) и поднимающуюся с земли бабу, обесчещенную татарами.
62
Прибрела же эта трагическая лошадь в русскую литературу из романа Виктора Гюго «Отверженные» (1862), смотрите главу «Смерть лошади». (У Гюго смерть лошади символизирует гибель Фантины – матери Козетты.)
63
Лизой зовут не только героиню сентиментальной повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» (1792) – повести, с которой началась русская проза, но и воспитанницу графини в пушкинской «Пиковой даме» (1834), и «тургеневскую девушку» Лизу из «Дворянского гнезда» (1859), а также героиню «Записок из подполья» Ф. М. Достоевского (1864).
64
Вспомним блестящие глаза Анны и полный огня глаз Фру-Фру.
65
Культ Великой Матери (Magna Mater) – древний синкретический культ всех средиземноморских народов.
66
Любопытно и то, что сквозь Незнакомку Блок видел также Демона (иными словами, сквозь богиню жизни и смерти – двойника-антипода): «Незнакомка. Это вовсе не просто дама в черном платье со страусовыми перьями на шляпе. Это – дьявольский сплав из многих миров, преимущественно синего и лилового. Если бы я обладал средствами Врубеля, я бы создал Демона; но всякий делает то, что ему назначено» (А. Блок «О современном состоянии русского символизма», 1910).
67
Почему Перри – двойник-антипод («звериный двойник») Джека? Перри помешан на том, что он – Король-рыбак (из рыцарского романа о Парсифале), что ему надо найти Святой Грааль и что помочь в этом ему может только Джек (обычное имя героя английской сказки), поскольку он «избранный». Джек пытается совершить самоубийство (бросившись в воду), но появляются двое парней («пустые двойники», подчеркивающие основную двойническую линию) и начинают его избивать, а затем обливают бензином, чтобы поджечь. Джека выручает Перри. Перри спускается с Джеком в котельную (вполне напоминающую лабиринт), где он живет (это вместо традиционной пещеры отшельника или великана-людоеда). На Перри надеты барашковая шапка и тулуп с барашковым воротником. Сам Перри, как типичный «звериный двойник», бородат и вообще волосат (это будет видно, когда он разденется ночью в парке, призывая Джека ощутить себя свободным и вместе с ним разгонять облака). В конце фильма Джек добывает Грааль, облачившись при этом в меховую шапку и тулуп Перри. Перед нами типичный «обмен шкурами» с двойником-антиподом: так и Джек помогает Перри завоевать Лидию (Прекрасную Даму), надев для этой цели на Перри свой костюм.
68
Вот и Баба-Яга подчас не только «рычит по-звериному», но и «свистит по-змеиному».
69
«Пришла она к избушке и увидела в окошке старуху, и были у той такие большие зубы, что стало ей страшно, и она хотела было убежать. Но старуха крикнула ей вслед:
– Милое дитятко, ты чего боишься! Оставайся у меня. Если ты будешь хорошо исполнять у меня в доме всякую работу, тебе будет хорошо. Только смотри, стели как следует мне постель и старательно взбивай перину, чтобы перья взлетали, и будет тогда во всем свете идти снег; я – госпожа Метелица».
70
«Побьется Чичиков с Коробочкой над заключением фантастической сделки, переведет умерших мужиков от Коробочки в свой заветный ящик и садится уписывать блины. Те блины – прямое производное операции с мертвецами, список блюд непосредственно следует за списком купленных душ» (Андрей Синявский «В тени Гоголя», 1970–1973). А мы еще заметим, что тем самым «заветный ящик» и утроба Чичикова – одно.
71
Пропп пишет в главе «Обрядовый смех» книги «Проблемы комизма и смеха»: «Мы уже не раз видели тесную связь между образом царевны и Деметрой, как богиней плодородия. Свинья играла большую роль в культе Деметры, как животное, приносящее плодородие. В греческой античности свинья имела связь с брачной жизнью. В расщелину, где, как полагали, обитала Деметра, бросали поросят».
72
При этом старик в «Портрете» – просто чёрт (шаблонно-романтический), он существует исключительно для Чарткова (как Тень Чарткова). Что же до Плюшкина, то он – человек с собственным жизненным путем. Плюшкин – не для Чичикова, он сам по себе. Но на пути Чичикова Плюшкин невольно играет роль чёрта (показывает Чичикову ад).
73
«Раскольников опустил правый локоть на стол, подпер пальцами правой руки снизу свой подбородок и пристально уставился на Свидригайлова. Он рассматривал с минуту его лицо, которое всегда его поражало и прежде. Это было какое-то странное лицо, похожее как бы на маску: белое, румяное, с румяными, алыми губами, с светло-белокурою бородой и с довольно еще густыми белокурыми волосами. Глаза были как-то слишком голубые, а взгляд их как-то слишком тяжел и неподвижен».
74
«Поразило меня тоже его лицо: волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые, – казалось бы, писаный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску…»
Интересно, что Шатов в разговоре со Ставрогиным и в самом деле (хотя и мельком) сравнивает своего собеседника с Ноздревым. А вот как первоначально намечал Достоевский образ Ставрогина в черновых тетрадях к роману: «Человек легкомысленный, занятый одной игрою жизнию, изящный Ноздрев, делает ужасно много штук, и благородных, и пакостных».
75
«Волосы у него были черные ужасно, лицо белое и румяное, как на маске, нос длинный, с горбом, как у французов, зубы белые, глаза черные».
76
«И это Ставрогин, “кровопийца Ставрогин”, как называет вас здесь одна дама, которая в вас влюблена!»
77
Сравните: «Проснулся он ранним утром. Первым делом его было, надевши халат и сапоги, отправиться через двор в конюшню приказать Селифану сей же час закладывать бричку. Возвращаясь через двор, он встретился с Ноздревым, который был также в халате, с трубкою в зубах». Вообще же халат – типичное одеяние двойника-антипода. (Интересно почему? Не потому ли, что его легко сбросить, – так обротень легко сбрасывает и надевает шкуру?)
78
«Но главное, что раздражило наконец Ивана Федоровича окончательно и вселило в него такое отвращение, – была какая-то отвратительная и особая фамильярность, которую сильно стал выказывать к нему Смердяков, и чем дальше, тем больше. Не то чтоб он позволял себе быть невежливым, напротив, говорил он всегда чрезвычайно почтительно, но так поставилось, однако ж, дело, что Смердяков видимо стал считать себя Бог знает почему в чем-то наконец с Иваном Федоровичем как бы солидарным, говорил всегда в таком тоне, будто между ними вдвоем было уже что-то условленное и как бы секретное, что-то когда-то произнесенное с обеих сторон, лишь им обоим только известное, а другим около них копошившимся смертным так даже и непонятное».
79
Подобную фамильярность (нахальство) мы видим и в стихотворении Блока «Двойник» (1909): «Вдруг – он улыбнулся нахально, / И нет близ меня никого… / Знаком этот образ печальный, / И где-то я видел его… / Быть может, себя самого / Я встретил на глади зеркальной?»
80
Фауст пляшет с молодой, Мефистофель (двойник-антипод Фауста) – со старой, при этом оба ведут со своими дамами разговор эротического характера.
81
В результате этого у богатырки рождаются два сына-близнеца – и вот перед нами «сущностная форма»: «источник жизни и смерти» (Синеглазка, Царь-девица) и два близнеца.
82
«– Старая ведьма! – сказал он, стиснув зубы, – так я ж заставлю тебя отвечать…
С этим словом он вынул из кармана пистолет.
При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головою и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела… Потом покатилась навзничь… и осталась недвижима».
83
«Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню и один был вполне живописен в своем картинном опустении. Зелеными облаками и неправильными трепетолистными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев. Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленной бурею или грозою, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная сверкающая колонна; косой остроконечный излом его, которым он оканчивался кверху вместо капители, темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица».
84
В «Мабиногионе» (сборнике валлийских легенд, составленном в XI–XII веках) Парцифаль (называемый там «Передур») добывает шахматную доску в сражении с «черным великаном» (то есть с «тенью»).
85
Так, в фильме Карла Теодора Дрейера «Слово» (1955) возле двери, ведущей в комнату с умирающей женщиной (которой затем предстоит воскреснуть), мы неоднократно видим прислоненную к стене шахматную доску.
86
Аналогичная сцена (красавица, испачканный герой, смех) есть, кстати сказать, и в гоголевском фрагменте «Рим», сюжет которого образует неожиданная встреча героя (князя) с Прекрасной Дамой (Аннунциатой). Герой вынужден прервать свое созерцание Аннунциаты по той причине, что участники карнавала обсыпали его мукой: «Его пробудил крик: пред ним остановилась громадная телега. Толпа находившихся в ней масок в розовых блузах, назвав его по имени, принялась качать в него мукой, сопровождая одним длинным восклицаньем: у, у, у… И в одну минуту с ног до головы был он обсыпан белою пылью, при громком смехе всех обступивших его соседей. Весь белый, как снег, даже с белыми ресницами, князь побежал наскоро домой переодеться». Любопытно, что в этом произведении появляется и герой-нос – опустившийся бедняк Пеппе, выполняющий разные мелкие поручения (как и положено Гермесу или Мефистофелю), а также страстно играющий в лотерею (то есть персонаж, имеющий дело с судьбой): «В это время выглянул из перекрестного переулка огромный запачканный нос и, как большой топор, повиснул над показавшимися вслед за ним губами и всем лицом. Это был сам Пеппе». Пеппе также оказывается обсыпанным мукой: «– Вот я, eccelenza, вот! – сказал Пеппе, снимая шапку. Он, как видно, уже успел попробовать карнавала. Его откуда-нибудь сбоку хватило сильно мукою. Весь бок и спина были у него выбелены совершенно, шляпа изломана, и все лицо было убито белыми гвоздями». Похоже чем-то на лицо Петровича?
87
Как высказался Гоголь по поводу «Ревизора»: «Странно, мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе. Да, было одно честное, благородное лицо, действовавшее в ней во все продолжение ее. Это честное, благородное лицо был – смех».
88
Гарпунщика герой сначала не видит – тот задержался, поскольку торговал «новозеландскими бальзамированными головами». Одну из них (проломленную) ему так и не удалось продать, он приносит ее и кладет (на глазах у пораженного Измаила) в мешок.
89
Смотрите мою работу «Сущностная форма».
90
Пегая лошадь – лошадь с белыми пятнами на темном или рыжем фоне.
91
Не говоря о том, что герой уже вроде как убит (он путешествует с пулей в сердце), примечательно, что до этого ему довелось упасть в грязь (вниз головой) – сразу после встречи с «Прекрасной Дамой» (торгующей бумажными цветами и тут же убитой любовником). И при падении с Уильяма слетела шляпа. Это случилось в темном, пасмурном городке (ноги увязают в грязи), куда он приехал по приглашению на работу.
92
«И где ты раздобыл этот клоунский костюм?»; «Его пегая кляча яйца выеденного не стоит… Если ему так неймется, то купил бы себе черную лошадь и покрасил бы белыми пятнами».
93
«Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. “Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?” – “Доедет”, – отвечал другой. “А в Казань-то, я думаю, не доедет?” – “В Казань не доедет”, – отвечал другой. Этим разговор и кончился».
94
Стадий— греческая мера длины, около 185 м.
95
Интересно отметить, что Мелвилл тоже создал гениальный рассказ о писце – «Писец Бартлби». В конце рассказа Бартлби умирает – и до рассказчика доходит слух, что до того, как поступить на работу к нему в контору, Бартлби работал в Отделе невостребованных писем (это в русском переводе они «невостребованные», а в американском тексте они «мертвые» – dead letters, посланные мертвыми людьми – dead men): «Невостребованные письма! Разве это не те же мертвецы? (Dead letters! does it not sound like dead men?) Представьте себе человека, от природы и под влиянием жизненных невзгод склонного к вялой безнадежности; есть ли работа, более способная усилить такую склонность, чем бесконечная разборка этих невостребованных писем, предшествующая их сожжению? А сжигают их каждый год целыми возами. Порою из сложенного листка бумаги бледный клерк вынимает кольцо, – палец, для которого оно предназначалось, возможно, уже истлел в могиле; или кредитный билет, посланный в порыве сострадания, – тот, кого он должен был выручить, уже не ест и не знает голода. В этих письмах – прощение для тех, кто умер, во всем изверившись; надежда для тех, кто умер в отчаянии; добрые вести для тех, кто умер, задохнувшись под гнетом несчастий. Посланцы жизни, эти письма гибнут в огне. О, Бартлби! О, люди!»
96
Из стихотворения «Есть игра: осторожно войти…».
97
Из романа Фридриха Максимилиана Клингера «Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад» (1791):
Фауст. Поспеши и убей. Будь стрелой моей мести!..
Чёрт. Фауст, я повинуюсь…
98
«Воланд был со шпагой, но этой обнаженной шпагой он пользовался как тростью, опираясь на нее. Прихрамывая, Воланд остановился возле своего возвышения, и сейчас же Азазелло оказался перед ним с блюдом в руках, и на этом блюде Маргарита увидела отрезанную голову человека с выбитыми передними зубами. <…>
– Михаил Александрович, – негромко обратился Воланд к голове, и тогда веки убитого приподнялись, и на мертвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза. – Все сбылось, не правда ли? – продолжал Воланд, глядя в глаза головы…».
99
«А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, – тут иностранец прищурился на Берлиоза, – пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмет – поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? – и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком».
100
Читая о том, как Берлиозу отрезали голову, читатель вполне может испытать чувство удовлетворения. То же чувство он может испытать, читая, как Маргарита, превратившаяся в ведьму, громит квартиру критика Латунского (правда, ее останавливает плач ребенка). В таком случае читатель разделит фантазию автора. Особенно навязчива эта фантазия (мечта о мести) в том эпизоде «романа в романе», когда Понтий Пилат, мстя за Иешуа Га-Ноцри, заказывает убийство Иуды начальнику тайной службы Афранию (и потом рассказывает об этом Левию Матфию, сияя от наслаждения и потирая руки). Иешуа – художник, за которого заступается, за которого мстит сам властитель.
101
Любопытное совпадение «Мастера и Маргариты» с романом Клингера «Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад» (1790): Фауст поручает чёрту одного негодяя убить, а другого забросить подальше (правда, не в Ялту, а в пески Ливии).
102
Если посмотреть на номер мастера в клинике (118) как на картинку, то мы увидим двойников и знак бесконечности, сам также двойственный (состоящий из двух петель). Мастер для Ивана – двойник-антипод, руководящий его инициацией (в результате которой Иван Бездомный становится историком Иваном Николаевичем). В данной сцене Ивану является Прекрасная Дама, богиня Луны – и приводит к нему мастера.
103
Подмигивает и богиня смерти (или сказочная «чёртова бабушка») в повести Пушкина «Пиковая дама» (1833): «После нее Германн решился подойти ко гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен как сама покойница, взошел на ступени катафалка и наклонился… В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Германн, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся об земь».
104
Сравните с тем, что пишет о подобном магическом глазе Карлос Кастанеда (неплохо знающий индейскую мифологию) в «Рассказах о силе» (1974) – книге, посвященной встрече с нáгуалем – териоморфным духом-двойником: «Секрет заключается в левом глазе. По мере того, как воин продвигается по тропе знания, его левый глаз приобретает возможность схватывать всё. Обычно левый глаз воина имеет странный вид. Иногда он становится постоянно скошенным или становится меньше другого или больше, или каким-либо образом отличается». В пьесе Генрика Ибсена «Пер Гюнт» (1867) Доврский дед хочет превратить Пера в тролля: «Левый твой глаз я чуть-чуть поскоблю, – / Вкось все и вкривь будешь видеть, / Но уж зато все красивым найдешь».
105
«Может, мы с тобой одно лицо? Может, между нами нет границ? И мы течем сквозь друг друга <…> У тебя страшные мысли. Находиться рядом с тобой – почти мучение. Вместе с тем это привлекательно. Знаешь почему? – Я не знаю, хочу ли я знать. – Ты ведь слыхал, как делают идолов врагов и втыкают в них иголки? Довольно топорный способ, если вспомнить, как стремительно доходят до цели злые мысли. Ты удивительная маленькая личность, Александр. Ты не хочешь говорить о том, о чем все время думаешь. В тебе – смерть человека. Постой! Я знаю, о ком ты думаешь!»
106
Мандельштам в статье «О природе слова» (1922) характеризует поэтику символизма следующим образом: «Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой».
107
Здесь имеется в виду последняя строфа стихотворения Афанасия Фета «Ласточки»:
Не так ли я, сосуд скудельный,
Дерзаю на запретный путь,
Стихии чуждой, запредельной,
Стремясь хоть каплю зачерпнуть?
108
В рассказе «Условные знаки» (или «Знаки и символы») (Signs and Symbols, 1948) Набоков пишет о своем герое (относящемся к действительности, подобно другу Ходасевича, как к личному сну): «Разновидность его умственного расстройства послужила предметом подробной статьи в научном журнале, но они с мужем давно сами ее для себя определили. Герман Бринк назвал ее Mania Referentia, “соотносительная мания”. В этих чрезвычайно редких случаях больной воображает, что все происходящее вокруг него имеет скрытое отношение к его личности и существованию. <…> Камушки, пятна, солнечные блики образуют узоры, составляющие каким-то страшным образом послания, которые он должен перехватить. Все на свете зашифровано, и тема этого шифра – он сам».
109
Появление двойника предвещает само название автомобиля Гумберта Гумберта – «Мельмот» – имя главного героя из романа Чарльза Роберта Метьюрина «Мельмот Скиталец» (1820) – романа о роковом (дьявольском) двойнике.
110
Сравните с фразой из начала фильма: «Вы продвигаетесь в глубь своей пещеры. Здесь вы встретите животное, покровительствующее вам».
111
Сравните с тем, что происходит с портретом в глазах художника Чарткова в гоголевской повести «Портрет»: «Он двоился, четверился в его глазах…»
112
«Мечтаю о какой-нибудь ужасающей катастрофе. О землетрясении. О грандиозном взрыве. Ее мать неопрятно, но мгновенно и окончательно изъята вместе со всеми остальными людьми на много миль вокруг. Лолита подвывает у меня в объятиях. Освобожденный, я обладаю ею среди развалин». Заказ на убийство сделан, а уж каким именно путем он будет выполнен (землетрясение? взрыв? автомобильная катастрофа? болезнь?) и сколько еще людей могут пострадать в ходе его выполнения (может быть, даже все, включая самого заказывающего), решать не заказчику, а исполнителю.
113
Впрочем, Смердяков вроде бы не совсем человек. В самой его фамилии которого заключено не только слово «смердеть», но и слово «смерть». Это, кажется, посланец царства смерти, оживший мертвец.
114
Вот и Гумберт Гумберт в «Лолите», посетив (и застрелив) Клэра Куильти (своего двойника-антипода), увидит «пустых двойников»: «Я не мог заставить себя путем прикосновения убедиться в его смерти. Во всяком случае, на вид он был мертв: недоставало доброй четверти его лица, и уже спустились с потолка две мухи, едва веря своему небывалому счастью». Затем Гумберт Гумберт спустится в гостиную: «две черноволосых, бледных молодых красотки, несомненно сестры, одна побольше, другая (почти ребенок) поменьше, скромно сидели рядышком на краю тахты». Затем Гумберт Гумберт выйдет из здания и направится к своему автомобилю: «Вот это (подумал я) – конец хитроумного спектакля, поставленного для меня Клэром Куильти. С тяжелым сердцем я покинул этот деревянный замок и пошел сквозь петлистый огонь солнца к своему Икару. Две другие машины были тесно запаркованы с обеих сторон от него, и мне не сразу удалось выбраться».
115
Халат, кстати сказать, мы видим и на Клэре Куильти (двойнике Гумберта Гумберта) в «Лолите» Набокова: «С серым лицом, с мешками под глазами, с растрепанным пухом вокруг плеши, но все же вполне узнаваемый кузен дантиста проплыл мимо меня в фиолетовом халате, весьма похожем на один из моих».
116
Опять этот смех.
117
О насекомом и стене (в данном случае вместо стены – оконное стекло), предвещающих появление ведьмы и двойника (Свидригайлов появится перед Раскольниковым, как только тот проснется), смотрите в моей работе «Ладушки, ладушки…».
118
Схоже вела себя литературная предшественница старухи-процентщицы – старая графиня из «Пиковой дамы» Пушкина (также будучи уже мертвой):
«– Туз выиграл! – сказал Германн и открыл свою карту.
– Дама ваша убита, – сказал ласково Чекалинский.
Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться.
В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его…
– Старуха! – закричал он в ужасе».
119
Как его «тащат», Раскольников ощутил еще перед убийством: «Последний же день, так нечаянно наступивший и все разом порешивший, подействовал на него почти совсем механически: как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественною силою, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать».
120
Когда Раскольников, убив старуху (Алену Ивановну) и ее сводную сестру Лизавету, собирается покинуть квартиру, появляется Кох и начинает звонить в дверной колокольчик, а затем дергать ручку дверей:
«– Да что они там, дрыхнут или передушил их кто? Тррреклятые! – заревел он как из бочки. – Эй, Алена Ивановна, старая ведьма! Лизавета Ивановна, красота неописанная! Отворяйте! У, треклятые, спят они, что ли?»
Называя процентщицу «старой ведьмой», Кох, конечно, не думает о славянской мифологии – он просто бранится (а «красота неописанная» – это просто развязное обращение). Однако древний мифический тандем из старой ведьмы и красавицы здесь работает – помимо воли Коха и, видимо, помимо сознательной писательской воли Достоевского.
121
Свидетельство современника: «Достоевский говорил быстро, волнуясь и сбиваясь… Самый ужасный, самый страшный грех – изнасиловать ребенка. Отнять жизнь – это ужасно, говорил Достоевский, но отнять веру в красоту любви – еще более страшное преступление. И Достоевский рассказал эпизод из своего детства. Когда я в детстве жил в Москве в больнице для бедных, рассказывал Достоевский, где мой отец был врачом, я играл с девочкой (дочкой кучера или повара). Это был хрупкий, грациозный ребенок лет девяти. Когда она видела цветок, пробивающийся между камней, то всегда говорила: «Посмотри, какой красивый, какой добрый цветочек!» И вот какой-то мерзавец, в пьяном виде, изнасиловал эту девочку, и она умерла, истекая кровью. Помню, рассказывал Достоевский, меня послали за отцом в другой флигель больницы, прибежал отец, но было ужо поздно. Всю жизнь это воспоминание меня преследует, как самое ужасное преступление, как самый страшный грех, для которого прощения нет и быть не может, и этим самым страшным преступлением я казнил Ставрогина в “Бесах”…» (так записала З. А. Трубецкая рассказ своего дяди).
122
Камелия – здесь: женщина сомнительного поведения (от названия романа А. Дюма-сына «Дама с камелиями»).
123
Гроденапль – особый род плотной шелковой материи.
124
Статуей выглядит и старуха-процентщица во сне Раскольникова: «Но странно: она даже и не шевельнулась от ударов, точно деревянная».
125
Сравните: девочка из предыдущего сна Свидригайлова дрожит от сырости и от темноты. «Дырявые башмачонки ее, на босу ногу, были так мокры, как будто всю ночь пролежали в луже».
126
Разумеется, в литературе есть сколько угодно примеров настоящего, чистого сострадания. Никто не «подкопается», скажем, под чувства автобиографического героя «Исповеди англичанина, употребляющего опиум» Томаса Де Квинси к «бедной и брошенной всеми девочке лет десяти», которую он обнаруживает в пустом доме, а затем к юной проститутке Анне («ей шел только шестнадцатый год»), вставшей на этот путь не по своей воле.
127
Между прочим, так убивают мальчика в фильме Бертолуччи «Двадцатый век» фашист-маньяк и его подруга (непосредственно после своего полового акта).
128
Рубо – муж Северины. Узнав, что старый и богатый Гранморен соблазнил Северину, когда той было шестнадцать лет, он убил соблазнителя в купе поезда (ударом ножа в горло). Рубо принудил участвовать в этом и Северину (она удерживала Гранморена, навалившись ему на ноги). Эту историю (со всеми страшными подробностями) Северина затем расскажет своему любовнику. Жак думал, что благодаря любовной связи с Севериной навсегда избавился от своего маниакального недуга, однако рассказ Северины об убийстве Гранморена возвращает его в болезнь.
129
О мухе и кошке в связи с убийством смотрите в моей работе «Ладушки, ладушки…».
130
Сравните также с (проникнутым иронией) поучением Мальдорора («Песни Мальдорора»): «Пока ты будешь идти к славе дорогой добродетели, тебя обскачет сотня хитрецов, так что к тому времени, как ты, со своей щепетильностью, доберешься до цели, тебе попросту некуда будет втиснуться. В наше время надо смотреть на мир шире. Взять хоть великих полководцев – тебе, конечно, известно, какие почести воздаются славным победителям. Но победы не приходят сами по себе. Чтобы одержать победу и насладиться ею, нужно пролить кровь, много крови. Устраивается бойня по всем правилам, после которой на полях остаются груды трупов, разорванные на куски тела… – без этого не бывает войны, а без войны не бывает побед. Выходит, чтобы прославиться, надо сначала, не дрогнув, искупаться в крови, которая рекою льется при разделке пушечного мяса. Цель оправдывает средства. Так вот, тому, кто хочет славы, прежде всего понадобятся деньги. У тебя их нет, значит, надо кого-нибудь прикончить, чтобы раздобыть их. Но поскольку ты еще мал и слаб, чтобы орудовать кинжалом, с этим придется повременить, а пока научись воровать. Ну, а для того чтобы мускулы твои поскорее окрепли, советую каждый день заниматься гимнастикой, час утром и час вечером. Тогда ты сможешь испробовать себя в убийстве не в двадцать, а, скажем, в пятнадцать лет. Жажда славы оправдывает все, к тому же, когда ты наконец станешь повелевать людьми, ты, может быть, сделаешь им столько же добра, сколько когда-то причинил зла».
131
Смотрите статью О. С. Муравьевой «Образ “мертвой возлюбленной” в творчестве Пушкина» (1991).
132
Нелюбимым дитятей в родной семье был, как известно, сам Пушкин. Неудивительно, что такова и его Муза.
133
Перевод Ивана Бунина.
134
Может быть, и не красавица. В оригинале – «ein feuchtes Weib» («мокрая женщина/баба»). У Гёте всё гораздо ощутимее и страшнее.
135
Du stiegst herunter, wie du bist… – Ты взял бы и спустился вниз…
136
У Гёте говорится о солнце и луне.
137
Имеется в виду возлюбленная: «Wie bei der Liebsten Gruss» («как при привете возлюбленной»).
138
Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm (она молвила ему, она пела ему);
Da war’s um ihn geschehn (тогда ему пришел конец);
Halb zog sie ihn, halb sank er hin (отчасти она его притянула, отчасти он погрузился /сам/)
Und ward nicht mehr gesehn (и больше его не видели).
139
Почему Натанаэль, завидев Коппелиуса, закричал о глазах? До этого рассказывалось, что Коппелиус (иноземец, говорящий на искаженном немецком, торговец барометрами и очками) пришел к Натанаэлю и разложил очки, предлагая их купить: «И он все вытаскивал и вытаскивал очки, так что скоро весь стол начал странно блестеть и мерцать. Тысячи глаз взирали на Натанаэля, судорожно мигали и таращились; и он уже сам не мог отвести взора от стола; и все больше и больше очков выкладывал Коппола; и все страшней и страшней сверкали и скакали эти пылающие очи, и кровавые их лучи ударяли в грудь Натанаэля».
140
А также в предшествующем этой трагедии сне Натанаэля: «Коппелиус хватает его и швыряет в пылающий огненный круг, который вертится с быстротою вихря и с шумом и ревом увлекает его за собой. Все завывает, словно злобный ураган яростно бичует кипящие морские валы, вздымающиеся подобно черным седоголовым исполинам».
141
Прекрасную Даму зовут Оттилия, а окружающих ее двойников (антиподов), соответственно, зовут Отто: «А кроме того, вы оба не подумали, что сегодня ваши именины. Ведь вас – и того и другого – зовут Отто?
Приятели протянули друг другу руки над маленьким столом». Двойничество здесь выражено и самим зеркальным именем: ОТ-ТО. Забавно истолкование этого имени в рассказе Набокова «Путеводитель по Берлину»: «Сегодня на снеговой полосе кто-то пальцем написал «Отто», и я подумал, что такое имя, с двумя белыми «о» по бокам и четой тихих согласных посередке, удивительно хорошо подходит к этому снегу, лежащему тихим слоем, к этой трубе с ее двумя отверстиями и таинственной глубиной».
142
Позже о портрете Оттилии, помещенном в куполе церкви, говорится следующее: «Как бы то ни было, а один из ликов, написанных напоследок, удался в совершенстве, и казалось, что сама Оттилия смотрит вниз с небесной высоты». А затем архитектор (создатель того портрета) составляет на Рождество «живую картину», в которой Оттилия представляет Богоматерь. Так что и богиня в виде оживающей картины имеет место быть.
143
Elle est une force de la nature qui s’exprime par des cataclysmes … c’est une reine… (Она – сила природы, проявляющаяся катаклизмами… это королева…)
144
Перевод Бориса Пастернака.
145
Брувик – архитектор, которого Сольнес обошел в своем карьерном выдвижении и который трудится теперь в конторе Сольнеса вместе со своим сыном Рагнаром – талантливым молодым архитектором, мечтающим о независимой карьере (о собственной конторе).
146
То есть матерью и воспитательницей своих детей.
147
Хильд, кстати сказать, – валькирия (это имя означает «сражение»). Ночами Хильд ходит по полю боя и воскрешает павших для нового сражения.
148
Миньона (mignon – миленький, славный /франц./) похожа на юную Музу. Особенно красиво это проявляется в танце с завязанными глазами среди разложенных на ковре яиц, который она (причем неожиданно, по своей воле) исполняет перед Вильгельмом Мейстером. Миньона вообще чудно танцует, поет и играет на музыкальных инструментах, а вот с речью (то есть с обыденным языком) у нее проблема. Она – из Италии (страны лимонов и апельсинов, как поет она в своей песне, тоскуя по родине), ее похитила бродячая цирковая труппа. Когда Вильгельм обручается у нее на глазах с другой женщиной, Миньона умирает от разрыва сердца. Затем Миньона предстает как «мертвая царевна» – перед тем, как необыкновенно торжественно хоронить, ее бальзамируют («Бальзамический состав пропитал все сосуды и ныне, заменив кровь, окрашивает преждевременно поблекшие щеки. Подойдите ближе, друзья, и посмотрите на чудо искусства и старания! / Он поднял покров: девочка в своих ангельских одеждах точно почивала, приняв грациозную позу. Все подошли и дивились этому подобию жизни».) Кроме того, когда Миньона была похищена бродячей труппой, ее мать решила, что девочка упала со скалы в воду. (У Миньоны была естественная потребность забираться на вершины гор, ходить по бортам корабля, а также подражать канатоходцам. Она любила высоту и риск.) Лермонтов сравнивает девушку-контрабандистку в «Герое нашего времени» (в главе «Тамань») с Миньоной. Большое впечатление произвел роман Гёте (особенно образ Миньоны) и на Достоевского. Например, Нелли из романа «Униженные и оскорбленные» похожа на Миньону (и умирает от «органического порока сердца»). Возможно, первый вариант названия романа Достоевского и был – «Миньона». Остается добавить, что у Гёте, в этом «романе воспитания», рассказывается о судьбоносной встрече с двойником и о различных судьбообразующих близнецах (мужчинах и женщинах). Один из них (аббат) старается повлиять на судьбу героя («играет судьбу»), подключив для этого своего брата-близнеца (который его «немного выше»). Брат аббата является Вильгельму во время представления как гамлетовский Призрак. (Вильгельм же играет Гамлета.)
149
И здесь опять намек на Миньону – на ее знаменитую песню «Знаешь ли ты страну…»:
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn (знаешь ли ты страну, где цветут лимоны),
Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn (в темной листве пылают золотые апельсины)…
150
В «Братьях Карамазовых»: «– И у меня бывал этот самый сон, – вдруг сказал Алеша. – Неужто? – вскрикнула Лиза в удивлении. – Послушайте, Алеша, не смейтесь, это ужасно важно: разве можно, чтоб у двух разных был один и тот же сон? – Верно, можно».
151
Позже этот мяч-голова перекочует в фильм Романа Полански «Жилец» (1976) («Они играют в футбол моей головой»). Главный герой поселяется в квартире, где раньше жила девушка, выбросившаяся из окна. Он постепенно становится этой девушкой (надевает ее оставшееся в шкафу платье, покупает парик, красится) – и в какой-то момент ему чудится в окне прыгающий шар, превращающийся затем в его отрезанную голову (в женском парике). В конце концов «жилец» выбрасывается из окна.
152
Это, пожалуй, неверно. Материальная сторона испытаний важна, поскольку символически выражает расчленение (поедание мифическим зверем) посвящаемого, а также то, что посвящаемый уже мертв (не ест, не пьет, не видит, не дышит…).
153
В одном из писем к Шарлотте фон Штейн Гёте пишет: «Что мне в настоящее время дает наибольшую отраду – так это жизнь растений. Все само навязывается мне, мне нет необходимости думать об этом, все само идет мне навстречу, и все огромное царство становится столь простым, что я тут же вижу ответ на наиболее сложные вопросы. Если бы я только мог сообщить свою догадку и радость кому-либо, но это невозможно. И это не греза и не причуда: я начинаю замечать сущностную форму, которой, видимо, Природа постоянно играет и из которой она производит свое великое разнообразие».
154
Например, в поэме Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате» (1855) Гайавата убивает Великого Осетра (Мише-Наму), сжав его сердце (перевод Ивана Бунина): «И опять могучий Нама / Услыхал нетерпеливый, / Дерзкий вызов, прозвучавший / По всему Большому Морю. / Сам тогда он с дна поднялся, / Весь дрожа от дикой злобы, / Боевой блистая краской / И доспехами бряцая, / Быстро прыгнул он к пироге, / Быстро выскочил всем телом / На сверкающую воду / И своей гигантской пастью / Поглотил в одно мгновенье / Гайавату и пирогу. / Как бревно по водопаду, / По широким черным волнам, / Как в глубокую пещеру, / Соскользнула в пасть пирога. / Но, очнувшись в полном мраке, / Безнадежно оглянувшись, / Вдруг наткнулся Гайавата / На большое сердце Намы: / Тяжело оно стучало / И дрожало в этом мраке. / И во гневе мощной дланью / Стиснул сердце Гайавата, / Стиснул так, что Мише-Нама / Всеми фибрами затрясся, / Зашумел водой, забился, / Ослабел, ошеломленный / Нестерпимой болью в сердце».
155
Например, в одном из мифов папуасов маринд-аним рассказывается о Сосоме-«пожирателе мальчиков»: «Едва зазвучит голос Сосома, женщины и дети покидают деревню. Мужчины, знающие Сосома, подзывают больших мальчиков и вместе с ними отправляются на площадку великана. Но мальчики очень его боятся. Всю ночь на площадке великана раздается пение. Наконец, песни умолкают. Тогда появляется Сосом и одного за другим забирает мальчиков. В то время как он пожирает второго, первый уже выходит из его заднего прохода. И так продолжается до тех пор, пока великан не сожрет и не пропустит через себя всех мальчиков. В теле Сосома мальчики становятся юношами, и когда они после праздника возвращаются домой, то уже надевают юношеские украшения. Молодые люди, ставшие людьми Сосома, имеют право видеть деревенскую гуделку, из которой исходит голос великана».
156
Одна из неприятных разновидностей двойника-антипода: чёрт с мешком, в котором либо находятся собранные им души, либо монеты для покупки душ. Например, «Песочный человек» Гофмана: «Подстрекаемый любопытством и желая обстоятельно разузнать все о Песочном человеке и его отношении к детям, я спросил наконец старую нянюшку, пестовавшую мою младшую сестру, что это за человек такой, Песочник? “Эх, Танельхен, – сказала она, – да неужто ты еще не знаешь? Это такой злой человек, который приходит за детьми, когда они упрямятся и не хотят идти спать, он швыряет им в глаза пригоршню песку, так что они заливаются кровью и лезут на лоб, а потом кладет ребят в мешок и относит на луну, на прокорм своим детушкам, что сидят там в гнезде, а клювы-то у них кривые, как у сов, и они выклевывают глаза непослушным человеческим детям”». В повести Гоголя «Портрет»: «Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья. Это был мешок». Мешок в произведениях может принимать разные виды – например, вид кожаного портфеля.
157
Образы «хозяйки леса», «хозяина леса» (мифического зверя), самого леса (представляющего стихию) могут сливаться (поскольку все три образа суть ипостаси «источника жизни и смерти»). Например, в рассказе Уильяма Фолкнера «Медведь» (1942) мальчик проходит посвящение в лесной чаще, хозяином, духом, воплощением которой является медведь («чаща, обиталище старого медведя, стала его университетом, а медведь этот, издавна одинокий и бездетный, точно сам себя бесполо породивший, – его alma mater»). Когда медведь ударом лапы ранил гончую собаку, мальчику кажется, что это сделал сам оживший одушевленный лес («мальчику казалось, что не живое существо, а сам лес нагнулся к ней на секунду и легонько шлепнул за дерзость»). А вот и образ женщины, возникающий из образа медведя (сравнение здесь возвращает к мифу): «Впереди ведь охоты, еще и еще. Ему всего одиннадцатый. И во мгле будущего, где рождается и принимает облик время, мерещились мальчику двое: неподвластный смерти старый медведь и он сам – рядовым, но участником. Ибо теперь он знал, чем несло от попрятавшихся собак и что омедняло слюну, он познал страх – так при виде женщины, много любившей и любимой многими, или даже только при виде ее спальни в подростке, в юноше пробуждается знание о любви и страсти, об извечном опыте и наследстве, во владение которым его еще не ввели».
158
В рассказе Эдгара По «Морелла» возлюбленная героя (имя которой – Морелла – говорит о том, что она есть воплощение богини смерти), умерев, полностью возрождается в своей (и героя) дочери (вариант романтического образа «мертвой возлюбленной», навещающей героя).
159
«В возрастных пределах между девятью и четырнадцатью годами встречаются девочки, которые для некоторых очарованных странников, вдвое или во много раз старше них, обнаруживают истинную свою сущность – сущность не человеческую, а нимфическую (т. е. демонскую); и этих маленьких избранниц я предлагаю именовать так: нимфетки».
160
Вспомните куклу Олимпию в «Песочном человеке» Гофмана. Герой рассказа Натанаэль смотрит на Олимпию (которая видна, но неясно, через окно противоположного дома), после чего в его комнате появляется его двойник-антипод Коппола (он же, как выясняется позже, конструктор Олимпии) – и предлагает Натанаэлю купить множество глаз: Коппола выкладывает на стол очки, которые называет глазами и которые представляются таковыми потенциальному покупателю («тысячи глаз взирали на Натанаэля, судорожно мигали и таращились…»). Затем Коппола дает Натанаэлю подзорную трубку, Натанаэль смотрит в нее на Олимпию.
161
Вариантом соотнесенного с человеком дерева («мирового древа») может выступать и дорога – как, к примеру, в практике сибирских шаманов или в повести Ивана Катаева «Ленинградское шоссе» (1933): «Улица летела мимо дома, мимо гроба, купаясь в просторах светлого воздуха, настигающе звенела трамваями, шуршала и погромыхивала по асфальту. Ленинградское шоссе уносилось вдаль, вдаль, сквозь дачные пригороды, парки, леса, кочкарник, болота, – на сотни километров вдаль, в туманы севера; всей протяженностью своей оно свидетельствовало о бесконечности жизни, о слитности ее мгновений и частиц».
162
«Она была болезненно худа и прихрамывала, крепко набелена и нарумянена, с совершенно оголенною длинною шеей, без платка, без бурнуса, в одном только стареньком темном платье, несмотря на холодный и ветреный, хотя и ясный сентябрьский день; с совершенно открытою головой, с волосами, подвязанными в крошечный узелок на затылке, в которые с правого боку воткнута была одна только искусственная роза, из таких, которыми украшают вербных херувимов».
163
«И все больше о своем ребеночке плачу…
– А разве был? – подтолкнул меня локтем Шатов, все время чрезвычайно прилежно слушавший.
– А как же: маленький, розовенький, с крошечными такими ноготочками, и только вся моя тоска в том, что не помню я, мальчик аль девочка. То мальчик вспомнится, то девочка. И как родила я тогда его, прямо в батист да в кружево завернула, розовыми его ленточками обвязала, цветочками обсыпала, снарядила, молитву над ним сотворила, некрещеного понесла, и несу это я его через лес, и боюсь я лесу, и страшно мне, и всего больше я плачу о том, что родила я его, а мужа не знаю.
– А может, и был? – осторожно спросил Шатов.
– Смешон ты мне, Шатушка, с своим рассуждением. Был-то, может, и был, да что в том, что был, коли его все равно что и не было? Вот тебе и загадка нетрудная, отгадай-ка! – усмехнулась она.
– Куда же ребенка-то снесла?
– В пруд снесла, – вздохнула она.
Шатов опять подтолкнул меня локтем.
– А что, коли и ребенка у тебя совсем не было и все это один только бред, а?
– Трудный ты вопрос задаешь мне, Шатушка, – раздумчиво и безо всякого удивления такому вопросу ответила она, – на этот счет я тебе ничего не скажу, может, и не было; по-моему, одно только твое любопытство; я ведь все равно о нем плакать не перестану, не во сне же я видела? – И крупные слезы засветились в ее глазах».
164
Например, в книге Пола Радина «Трикстер» о мифическом Кролике-трикстере индейцев виннебаго рассказывается следующее: «Кролик посмотрел в ее (бабушки. – И. Ф.) сторону и увидел, что часть ее спины осела, как оседает земля. И он увидел людей, исчезающих под оседающей землей». Сюда же можно отнести и «чахоточную деву» (пушкинскую Музу) из стихотворения «Осень», а также других «мертвых возлюбленных» из пушкинской поэзии (например, русалок-утопленниц).
165
Так, в гётевском «Фаусте» Елена является Фаусту в зеркале: Was seh ich? Welch ein himmlisch Bild / Zeigt sich in diesem Zauberspiegel! («Что я вижу? Какой небесный образ является: «показывается» в этом волшебном зеркале!»)
166
«Смерть проходит на сцену через зеркало. За нею следуют двое ее помощников. Смерть в бальном платье и манто. Помощники в костюмах хирургов. Лица их закрыты марлей, угадываются только глаза. На руках резиновые перчатки. Они несут два больших, очень элегантных черных чемодана. Смерть быстро выходит на середину комнаты и останавливается. <…>
Эртебиз. Я открываю вам тайну тайн. Зеркала – это двери, через которые приходит и уходит Смерть. Не говорите никому об этом. Смерть работает в зеркале, словно пчела в стеклянном улье. Прощайте же. Удачи!
Орфей. Но ведь зеркало твердое.
Эртебиз (с поднятой рукой). В этих перчатках вы пройдете сквозь зеркала, как сквозь воды».
Принцесса Смерть и Эртебиз (мифический «живой мертвец», проводник Орфея в царство умерших и обратно) в конце фильма спасают Орфея (возвращают к жизни после того, как его растерзали «менады»).
167
Героиня фильма Кесьлёвского «Три цвета: Синий», Жюли, у которой в автокатастрофе погибли муж и дочь, встречает соседку по дому – стриптизершу Люсиль. Она-то и помогает Жюли пережить трагедию (причем помогает практически невольно). В фильме «Двойная жизнь Вероники» мы видим самых настоящих двойников, двух Вероник. (И одна из них незримо помогает другой, которая, ощущая это, говорит: «Я всю жизнь была здесь и не здесь одновременно. Это трудно объяснить. Но я всегда знаю… я чувствую, что должна делать».) Примечательно, что «источником жизни и смерти» (вместо «Прекрасной Дамы»), сюжетно расположенным между этими «двойницами», выступает мужчина – кукольник и сказочник Александр.
168
При этом кадре Альма говорит: «Нет, я не похожа на тебя. Я не чувствую, как ты. Я – сестра Альма. Я здесь, чтобы помочь тебе. Я не Элизабет Фоглер. Ты – Элизабет Фоглер!» Альма превратилась в своего двойника-антипода – и испугалась. А ранее она говорила: «… мы же очень похожи. <…> И я бы сумела превратиться в тебя. Если бы постаралась. Я хочу сказать, внутренне. А ты как считаешь?»
169
«Потом появилась строгая темноволосая женщина с бледным серьезным лицом и мечтательными глазами, с книгой в руках, в длинном одеянии бледно-пурпурного цвета, падавшем мягкими складками. Она поманила меня и увела с собой на галерею над залом. <…> Мы подошли к скамье на галерее. Я стал рядом с ней, собираясь заглянуть в книгу, которую она открыла у себя на коленях. Страницы распахнулись. Она указывала мне, и я в изумлении смотрел: на оживших страницах книги я увидел самого себя. Это была повесть обо мне; в ней было все, что случилось со мной со дня моего рождения. Я дивился, потому что страницы книги не были картинками, ты понимаешь, а реальной жизнью».
170
Иногда и сам писатель, одаряющий своего героя буквальным двойником, действительно встречал двойника. Так, Э. Т. А. Гофман записывает в дневнике: «Накатывает предчувствие смерти. Двойники». Август Стриндберг рассказывает в автобиографической книге «Слово безумца в свою защиту» (1893): «Я дошел тогда до такого состояния, что среди белого дня стал всего бояться, не мог оставаться один в комнате, потому что мне чудилось, что я вижу самого себя, и друзья мои были вынуждены по очереди стеречь меня ночи напролет, зажигая по нескольку свечей и разводя огонь в печи». Тема буквальных двойников живо интересовала и Бунина. В его автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева» (1930) герой читает героине автобиографическую книгу Гёте «Поэзия и правда: из моей жизни» (1831). И между ними происходит в этой связи такой разговор:
«Она внимательно слушала. Потом вдруг спрашивала:
– А скажи, зачем ты прочел мне это место из Гёте? Вот, как он уезжал от Фредерики и вдруг мысленно увидал какого-то всадника, ехавшего куда-то в сером камзоле, обшитом золотыми галунами. Как это там сказано?
– “Этот всадник был я сам. На мне был серый камзол, обшитый золотыми галунами, какого я никогда не носил”.
– Ну да, и это как-то чудесно и страшно».
171
«Я уже не раз упоминал об отвратительном мне покровительственном тоне, который он взял в отношении меня, и о его частом назойливом вмешательстве в мои дела». «Можно лишь было сказать, что во всех тех многочисленных случаях, когда он в последнее время становился мне поперек дороги, он делал это, чтобы расстроить те планы и воспрепятствовать тем поступкам, которые, удайся они мне, принесли бы истинное зло».
172
«…у соперника моего были, видимо, слабые голосовые связки, и он не мог говорить громко, а только еле слышным шепотом. <…> несмотря на присущий ему органический недостаток, ему удавалось подражать даже моему голосу. Громко говорить он, разумеется, не мог, но интонация была та же; и сам его своеобразный шепот стал поистине моим эхом».
173
«Там, где еще минуту назад я не видел ничего, стояло огромное зеркало – так, по крайней мере, мне почудилось в этот первый миг смятения; и когда я в неописуемом ужасе шагнул к нему, навстречу мне нетвердой походкой выступило мое собственное отражение, но с лицом бледным и обрызганным кровью.
Я сказал – мое отражение, но нет. То был мой противник – предо мною в муках погибал Вильсон. Маска его и плащ валялись на полу, куда он их прежде бросил. И ни единой нити в его одежде, ни единой черточки в его приметном и своеобычном лице, которые не были бы в точности такими же, как у меня!»
174
«…одно ошеломляющее обстоятельство. Плащ, в котором я пришел сюда, был подбит редчайшим мехом; сколь редким и сколь дорогим, я даже не решаюсь сказать. Фасон его к тому же был плодом моей собственной фантазии, ибо в подобных пустяках я, как и положено щеголю, был до смешного привередлив. Поэтому, когда мистер Престон протянул мне плащ, что он поднял с полу у двери, я с удивлением, даже с ужасом, обнаружил, что мой плащ уже перекинут у меня через руку (без сомнения, я, сам того не заметив, схватил его), а тот, который мне протянули, в точности, до последней мельчайшей мелочи его повторяет.
Странный посетитель, который столь гибельно меня разоблачил, был, помнится, закутан в плащ. Из всех собравшихся в тот вечер в плаще пришел только я. Сохраняя по возможности присутствие духа, я взял плащ, протянутый Престоном, незаметно кинул его поверх своего, с видом разгневанным и вызывающим вышел из комнаты…»
175
«Но дом! Какое же это было причудливое старое здание! Мне он казался поистине заколдованным замком! Сколько там было всевозможных запутанных переходов, сколько самых неожиданных уголков и закоулков. Там никогда нельзя было сказать с уверенностью, на каком из двух этажей вы сейчас находитесь. Чтобы попасть из одной комнаты в другую, надо было непременно подняться или спуститься по двум или трем ступенькам. Коридоров там было великое множество, и они так разветвлялись и петляли, что, сколько ни пытались мы представить себе в точности расположение комнат в нашем доме, представление это получалось не отчетливей, чем наше понятие о бесконечности. За те пять лет, что я провел там, я так и не сумел точно определить, в каком именно отдаленном уголке расположен тесный дортуар, отведенный мне и еще восемнадцати или двадцати делившим его со мной ученикам».
Прокравшись ночью по этому лабиринту к своему тезке, герой убеждается, что тот – его полный двойник:
«Однажды ночью, в конце пятого года пребывания в пансионе и сразу после только что описанной ссоры, я дождался, когда все погрузились в сон, встал и, с лампой в руке, узкими запутанными переходами прокрался из своей спальни в спальню соперника. <…> Я взглянул – и вдруг оцепенел, меня обдало холодом. Грудь моя тяжело вздымалась, колени задрожали, меня объял беспричинный и, однако, нестерпимый ужас. Я перевел дух и поднес лампу еще ближе к его лицу. Неужели это… это лицо Вильяма Вильсона? Я, конечно, видел, что это его лицо, и все же не мог этому поверить, и меня била лихорадочная дрожь. Что же в этом лице так меня поразило? Я смотрел, а в голове моей кружился вихрь беспорядочных мыслей. Когда он бодрствовал, в суете дня, он был не такой, как сейчас, нет, конечно, не такой. То же имя! Те же черты! Тот же день прибытия в пансион! Да еще упорное и бессмысленное подражание моей походке, голосу, моим привычкам и повадкам! Неужели то, что представилось моему взору, – всего лишь следствие привычных упражнений в язвительном подражании? Охваченный ужасом, я с трепетом погасил лампу, бесшумно выскользнул из каморки и в тот же час покинул стены старого пансиона, чтобы уже никогда туда не возвращаться».
176
«Поскольку я сидел с моим дикарем в одном вельботе, работая позади него вторым от носа веслом, в мои веселые обязанности входило также помогать ему теперь, когда он выполняет свой замысловатый танец на спине кита. Все, наверное, видели, как итальянец-шарманщик водит на длинном поводке пляшущую мартышку. Точно так же и я с крутого корабельного борта водил Квикега среди волн на так называемом «обезьяньем поводке», который прикреплен был к его тугому парусиновому поясу.
Это было опасное дельце для нас обоих! Ибо – это необходимо заметить, прежде чем мы пойдем дальше, – «обезьяний поводок» был прикреплен с обоих концов: к широкому парусиновому поясу Квикега и к моему узкому кожаному. Так что мы с ним были повенчаны на это время и неразлучны, что бы там ни случилось; и если бы бедняга Квикег утонул, обычай и честь требовали, чтобы я не перерезал веревку, а позволил бы ей увлечь меня за ним в морскую глубь. Словом, мы с ним были точно сиамские близнецы на расстоянии. Квикег был мне кровным, неотторжимым братом, и мне уж никак было не отделаться от опасных родственных обязанностей, порожденных наличием пеньковых братских уз».
177
В повести Андрея Платонова «Котлован» (1930) мы видим медведя-молотобойца – звериного двойника землекопа Никиты Чиклина: «Кузнец качал мехом воздух в горн, а медведь бил молотом по раскаленной железной полосе на наковальне. <…> Кузнец ему указал на Чиклина, и медведь спокойно пошел за человеком, привычно держась впрямую, на одних задних лапах».
О двойничестве и связанном с ним ужасе мы читаем в «Записных книжках» Платонова: «Когда я вижу в трамвае человека, похожего на меня, я выхожу вон»; «Я не смотрюсь никогда в зеркало, и у меня нет фотографий»; «Если я замечу, что человек говорит те же слова, что и я, или у него интонация в голосе похожа на мою, у меня начинается тошнота». Вот также известный рассказ писателя из его письма жене: «Два дня назад я пережил большой ужас. Проснувшись ночью (у меня неудобная жесткая кровать) – ночь слабо светилась поздней луной, – я увидел за столом у печки, где обычно сижу я, самого себя. Это не ужас, Маша, а нечто более серьезное. Лежа в постели, я увидел, как за столом сидел тоже я и, полуулыбаясь, быстро писал. Причем то я, которое писало, ни разу не подняло головы и я не увидел у него своих слез. Когда я хотел вскочить или крикнуть, то ничего во мне не послушалось. Я перевел глаза в окно, но увидел там обычное смутное ночное небо. Глянув на прежнее место, себя я там не заметил. В первый раз я посмотрел на себя живого – с неясной и двусмысленной улыбкой, в бесцветном ночном сумраке. До сих пор я не могу отделаться от этого видения и жуткое предчувствие не оставляет меня. Есть много поразительного на свете. Но это – больше всякого чуда».
178
Поглядим на беглого каторжника Вотрена (по кличке «Обмани-смерть») из романа Бальзака «Отец Горио»: «Пощупайте! – сказал этот необыкновенный человек, расстегивая жилет и обнажая грудь, мохнатую, как спина медведя, поросшую какой-то противной буро-рыжей шерстью». Он здесь обращается к Эжену де Растиньяку (двойником-антиподом которого является).
179
Например, в рассказе Леонида Андреева «Он» (двойник-тень появляется после того, как герой подпал под чары Прекрасной Дамы, утонувшей русалки, женщины-моря, женщины-снега): «Кажется, я начал уже засыпать, как вдруг почувствовал, что за окном кто-то стоит, что-то вроде тени обрисовалось на белой занавеске. <…> “По-видимому, кто-нибудь приехал и не знает, как войти в дом”, – подумал я и с чувством легкой тревоги подошел к окну и отдернул занавеску… да, прямо передо мною, по грудь возвышаясь над подоконником, стоял кто-то и неподвижно-темным лицом смотрел на меня. Немного растерявшись, я сделал рукой что-то вроде приветственного знака, но он не ответил и остался совершенно неподвижен; я постучал пальцами по стеклу – та же неподвижность темной фигуры и темного, погруженного в тень лица.
– Что вам надо? – негромко спросил я, забывая, что сквозь двойные зимние рамы голос мой не может быть слышен.
И действительно, ответа не последовало, и так же неподвижно и прямо смотрело на меня темное лицо. “Ну погоди же, – подумал я сердито. – Я тебя поймаю!” Но не успел я повернуться от окна, как он уже начал отходить – медленно, не торопясь, на мгновение обрисовавшись темным профилем. Я успел еще заметить, что плечи его прямо и необыкновенно широки и что на голове у него невысокий котелок…»
180
«Он тяжело перевел дыхание, – но странно, сон как будто все еще продолжался: дверь его была отворена настежь, и на пороге стоял совсем незнакомый ему человек и пристально его разглядывал.
Раскольников не успел еще совсем раскрыть глаза и мигом закрыл их опять. Он лежал навзничь и не шевельнулся. “Сон это продолжается или нет”, – думал он и чуть-чуть, неприметно опять приподнял ресницы поглядеть: незнакомый стоял на том же месте и продолжал в него вглядываться».
181
Штольц любопытен тем, что, с одной стороны, он двойник-антипод, постоянно противопоставляемый герою и стремящийся влиять на судьбу героя, с другой же стороны, Штольц – «липовый» двойник, потому что на судьбу Обломова у него как раз таки и не получается повлиять (как и Ольга Ильинская – «липовая» Прекрасная Дама). На судьбу Обломова влияет другая команда: госпожа Пшеницына (своего рода Деметра) и ее «братец». Подвижные голые локти госпожи Пшеницыной, кстати сказать, напоминают двух резвых зверушек («Обломову видна была только спина хозяйки, затылок и часть белой шеи да голые локти. – Что это она там локтями-то так живо ворочает? – спросил Обломов»).
182
Трость в качестве жертвенного ножа (обычно возникающего между двойниками) мы видим и в поэме Сергея Есенина «Черный человек»: «“Черный человек! / Ты – прескверный гость! / Эта слава давно / Про тебя разносится”. / Я взбешен, разъярен, / И летит моя трость / Прямо к морде его, / В переносицу… / <…> …Месяц умер, / Синеет в окошко рассвет. / Ах, ты, ночь! / Что ты, ночь, наковеркала! / Я в цилиндре стою. / Никого со мной нет. / Я один… / И – разбитое зеркало…»
183
Пальто подчас само может выступать в качестве двойника – например, в автобиографической повести Рюноскэ Акутагавы «Зубчатые колеса» (1927): «Мне показалось, что пальто, висящее на стене, – это я сам, и я поспешно швырнул его в шкаф, стоявший в углу. Потом подошел к трюмо и внимательно посмотрел в зеркало. У меня на лице под кожей обозначились впадины черепа».
184
Тут можно вспомнить и некоторых гоголевских персонажей, и «персидского подданного Шишнарфнэ» из романа Андрея Белого «Петербург» (1914), играющего роль двойника-чёрта («и из тьмы перед самым лицом его вдруг сложилось лицо персидского подданного»). В том же романе возникает и двойник-монгол: «Темно-желтая пара Липпанченки напомнила незнакомцу темно-желтый цвет обой его обиталища на Васильевском Острове – цвет, с которым связалась бессонница и весенних, белых, и сентябрьских, мрачных, ночей; и, должно быть, та злая бессонница вдруг в памяти ему вызвала одно роковое лицо с узкими, монгольскими глазками; то лицо на него многократно глядело с куска его желтых обой». Да и вообще страх пред «панмонголизмом» на рубеже веков есть не что иное, как страх перед двойником-антиподом. Аналогичный глобальный двойник (двойник-антипод не только главного героя Ульриха, но и всей цивилизации, в которой этот герой проживает) есть и в романе Роберта Музиля «Человек без свойств» (1930). Это «убийца женщин Моосбругер». «Чем-то неведомым Моосбругер касался его больше, чем его, Ульриха, собственная жизнь, жизнь, которую он, Ульрих, вел; Моосбругер волновал его как темное стихотворение, где все немного искажено и смещено и являет какой-то раздробленный, таящийся в глубине души смысл».
185
Американский юноша (второй половины XIX века), попавший на Дикий Запад, носит имя английского поэта-духовидца (William Blake, 1757–1827). Стихов своего тезки он не знает, зато индеец знает их и даже разговаривает ими. Смысл такого художественного хода: современный Уильям не ведает, что в нем самом заложено, – и двойник-антипод помогает герою открыть (постепенно) самого себя.
186
Так, в автобиографической (и предсмертной) повести Рюноскэ Акутагавы «Зубчатые колеса» (1927) герой встречает очередного двойника-антипода, отмечая при этом навязчиво попадающееся ему на глаза сочетание черного и белого: «Тут навстречу мне, выпятив грудь, прошел близорукий иностранец лет сорока. Это был швед, живший по соседству и страдавший манией преследования. И звали его Стриндберг. Когда он проходил мимо, мне показалось, будто я физически ощущаю это. Улица состояла всего из двух-трех кварталов. Но на протяжении этих двух-трех кварталов ровно наполовину белая, наполовину черная собака пробежала мимо меня четыре раза. Сворачивая в переулок, я вспомнил виски “Black and white”. И вдобавок вспомнил, что сейчас на Стриндберге был черный с белым галстук. Я никак не мог допустить, что это случайность. Если же это не случайность, то… Мне показалось, будто по улице идет одна моя голова, и я на минутку остановился. На обочине дороги за проволочной оградой валялась стеклянная миска с радужным отливом. На дне миски проступал узор, напоминавший крылья. С веток сосны слетела стайка воробьев. Но, подскакав к миске, они, точно сговорившись, все до единого разом упорхнули ввысь. Я пошел к родителям жены и сел в кресло, стоявшее у ступенек в сад. В углу сада за проволочной сеткой медленно расхаживали белые куры из породы леггорн. А потом у моих ног улеглась черная собака».
187
А вот как К. Г. Юнг описывает встречу с ритуальным фаллосом-людоедом (при погружении в «подземный храм») в книге «Воспоминания, сновидения, размышления» (1961):
«Приблизительно тогда же… у меня было самое раннее сновидение из запомнившихся мне, сновидение, которому предстояло занимать меня всю жизнь. Мне было тогда немногим больше трех лет.
Дом священника стоял особняком вблизи замка Лауфэн, рядом тянулся большой луг, начинавшийся у фермы церковного сторожа. Во сне я находился на этом лугу. Внезапно я заметил темную прямоугольную, выложенную изнутри камнями яму. Я никогда прежде не видел ничего подобного. Я подбежал и с любопытством заглянул вниз. Я увидел каменные ступени. В страхе и неуверенности я спустился. В самом низу за зеленым занавесом был вход с круглой аркой. Занавес был большой и тяжелый, ручной работы, похож был на парчовый, и выглядел очень роскошно. Любопытство мое требовало узнать, что за ним, я отстранил его и увидел перед собой в тусклом свете прямоугольную палату, метров в десять длиною, с каменным сводчатым потолком. Пол тоже был выложен каменными плитами, а в центре его лежал красный ковер. Там, на возвышении, стоял золотой трон, удивительно богато украшенный. Я не уверен, но возможно, что на сиденье лежала красная подушка. Это был величественный трон, в самом деле, – сказочный королевский трон. Что-то стояло на нем, сначала я подумал, что это ствол дерева (что-то около 4–5 м высотой и 0,5 м в толщину). Это была огромная масса, доходящая почти до потолка, и сделана она была из странного сплава – кожи и голого мяса, на вершине находилось что-то вроде круглой головы без лица и волос. На самой макушке был один глаз, устремленный неподвижно вверх.
В комнате было довольно светло, хотя не было ни окон, ни какого-нибудь другого видимого источника света. От головы, однако, полукругом исходило яркое свечение. То, что стояло на троне, не двигалось, и все же у меня было чувство, что оно может в любой момент сползти с трона и, как червяк, поползти ко мне. Я был парализован ужасом. В этот момент я услышал снаружи, сверху, голос моей матери. Она воскликнула: “Ты только посмотри на него. Это же людоед!” Это лишь увеличило мой ужас, и я проснулся в испарине, напуганный до смерти. Много ночей после этого я боялся засыпать, потому что я боялся увидеть еще один такой же сон.
Это сновидение преследовало меня много дней. Гораздо позже я понял, что это был образ фаллоса, и прошли еще десятилетия, прежде чем я узнал, что это ритуальный фаллос».
188
Как пишет Д. К. Лаушкин в статье «Баба-Яга и одноногие боги» («Фольклор и этнография», 1970): «Если у мифологического существа неладно с ногами, то ищите змею».
189
В процессе обряда инициации человек утрачивает свою прежнюю идентичность, свое имя. После обряда, например, надевали на голову бычий пузырь и изображали потерю памяти, а то и просто безумие. Вот как это описывает В. Я. Пропп в книге «Исторические корни волшебной сказки» (1946):
«Плешивые и покрытые чехлом.
С мотивом неузнанного прибытия часто связан мотив покрытой или, наоборот, непокрытой, безволосой головы. Уже в приведенном примере мы видели: “а свое лицо закрой, не кажи”. Герой часто надевает на голову какой-нибудь пузырь, или кишку, или тряпку. “Тогда выбрал требушину, взял кишки, вымыл как следует, надел на голову – образовалась шляпа у нево, а кишками руки оммотал”. Или: “Иван купеческий сын отпустил коня на волю, нарядился в бычью шкуру, на голову пузырь надел и пошел на взморье”. “Купила она три кожи воловьих. Сработал он себе кожан, так что человек и не видно, и хвост пришил сажени в две”.
Мы видим, что герой в этих случаях почему-то прячет свои волосы, прячет голову.
Этот мотив покрытой головы странным образом часто связан со своей противоположностью – с мотивом открытой, плешивой, лысой головы. Часто этот мотив связан с “Незнайкой”. “Пошел на бойню, где бьют скот, взял пузырь, надел его на голову. Пришел к царю за милостыней. Царь и спрашивает: "Как тебя зовут?" – "Плешь!" – "По отечеству?" – "Плешавница!" – "А откуда родом?" – "Я прохожий, сам не знаю откуда″”. Здесь герой, покрывший голову, называет себя плешивым. По-видимому, кишки или пузырь должны скрыть волосы, вызвать впечатление плешивости».
Одно из значений слова «плешь» в русских народных говорах – «фаллос». Речь идет не только об утрате посвящаемым идентичности, но и о превращении его в фаллос – так сказать, в «чёрта лысого». (Например, в поэме Гоголя «Мертвые души» Ноздрев говорит Чичикову: «Чёрта лысого получишь! хотел было, даром хотел отдать, но теперь вот не получишь же!»)
190
В «Лолите» Набокова автор сам подчеркивает, открывает читателю связь между двойным именем главного героя, лежащими на пляже темными очками (взгляд невидимки!) и выходящими из моря двойниками – «двумя бородатыми купальщиками, морским дедом и его братцем». Подробнее об этом – в моей работе «Тень от шпаги».
191
Кинг-Конг (в одноименном фильме 1933 года) является звериным двойником помощника капитана (Джека), влюбленного в главную героиню. В начале путешествия Джек был груб с ней – и именно его и героиню другой персонаж назвал: «красавица и чудовище». Примечательно и то, что в конце фильма Кинг-Конг падает (сначала вниз головой, а затем переворачиваясь в воздухе) с небоскреба. В имени «Кинг-Конг» звучит английское tick-tock (тик-так). Это замечательно, поскольку главная роль двойника-антипода – провести героя через смерть и тем самым сделать его жизнь законченной, закругленной, полной – подобной произведению искусства, стихотворению. (Как заметил один из английских литературоведов, мы слышим в ходе часов «тик-так» именно потому, что нам нужно придать мгновению художественную законченность, чтобы преодолеть дурную бесконечность «тик-тик-тик…». «Тик-так» – это «начало-конец».)
192
«Я не могу четко видеть».
193
Князь Мышкин и Рогожин у тела Настасьи Филипповны – явленная «сущностная форма» (герой ↔ Прекрасная (она же Ужасная) Дама ↔ двойник-антипод. Как отметил в одном из писем сам Достоевский, «для развязки романа почти и писался и задуман был весь роман».
194
Или ослепляется, как, например, Полифем, или ослепляет (в общем, является носителем слепоты), как Песочный человек в одноименном рассказе Гофмана (который затем воплотится в адвоката Коппелиуса, алхимика, а затем в торговца барометрами и конструктора роботов Копполу): «Ах, маменька, кто ж этот злой Песочник, что всегда прогоняет нас от папы? Каков он с виду?» – «Дитя мое, нет никакого Песочника, – ответила мать, – когда я говорю, что идет Песочный человек, это лишь значит, что у вас слипаются веки и вы не можете раскрыть глаз, словно вам их запорошило песком»».
195
В фильме Ингмара Бергмана «Земляничная поляна» (1957) профессору медицины Исаку Боргу снится, что он забрел в какой-то пустой город. Он видит круглые часы без стрелок, причем под циферблатом висит изображение двух глаз. Затем профессор замечает фигуру мужчины в черном пальто и черном котелке, стоящего к нему спиной. Профессор подходит и трогает мужчину за плечо. Тот оборачивается – и профессор отшатывается, так как лица у мужчины практически нет (оно «сжато в кулак»). Затем мужчина падает, шляпа его отлетает, и из головы на мостовую течет кровь. После чего приезжает катафалк, запряженный двумя черными конями, и задевает колесом за фонарь. Колесо отваливается и катится к профессору, наполовину при этом развалившись. Фонарь же пошатнулся и в свою очередь чуть не лишился головы (его стеклянный короб сломался и съехал набок). Катафалк кое-как двинулся дальше, но при этом из него выпадает гроб и частично разваливается. Из гроба торчит рука. Рука начинает подавать знак (иди сюда). Профессор подходит и видит в гробу самого себя. Оживший мертвец хватает своей рукой руку профессора, тянет к себе вниз (в гроб) – и Исак Борг просыпается.
196
В повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы» (1902), которая вдохновила Копполу на его фильм, Куртц предстает соединением «Кощея Бессмертного» с вечно голодным людоедом: «Его одеяло откинулось, и обнажилось тело, словно освобожденное от савана, страшное и жалкое. Я видел, как двигались все его ребра, как он размахивал костлявой рукой. Казалось, одушевленная статуя смерти, вырезанная из старой слоновой кости, потрясала рукой, угрожая неподвижной толпе людей из темной сверкающей бронзы. Я видел, как он широко раскрыл рот… в этот момент он выглядел прожорливым и страшным, словно хотел проглотить воздух и всех людей, стоявших перед ним». Река же предстает в повести мифическим зверем: «Но была там одна река, могучая, большая река, которую вы можете найти на карте, – она похожа на огромную змею, развернувшую свои кольца; голова ее опущена в море, тело извивается по широкой стране, а хвост теряется где-то в глубине страны».
197
Так, в рассказе Льва Толстого «Хозяин и работник» (1895) главному герою перед смертью является двойник – в виде куста чернобыльника. Куст что-то говорит герою обо всей его жизни – своим видом и своими роковыми повторами (герой сбился с пути и, блуждая, все время возвращается к этому чернобыльнику): «Вдруг перед ним зачернелось что-то. Сердце радостно забилось в нем, и он поехал на это черное, уже видя в нем стены домов деревни. Но черное это было не неподвижно, а все шевелилось, и было не деревня, а выросший на меже высокий чернобыльник, торчавший из-под снега и отчаянно мотавшийся под напором гнувшего его все в одну сторону и свистевшего в нем ветра. И почему-то вид этого чернобыльника, мучимого немилосердным ветром, заставил содрогнуться Василия Андреича, и он поспешно стал погонять лошадь.<…> И почему-то ему вспомнился мотавшийся от ветра чернобыльник, мимо которого он проезжал два раза, и на него нашел такой ужас, что он не верил в действительность того, что с ним было».
198
Например, в набоковском «Даре» (1938): «Переходя на угол в аптекарскую, он невольно повернул голову (блеснуло рикошетом с виска) и увидел – с той быстрой улыбкой, которой мы приветствуем радугу или розу, – как теперь из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкап, по которому, как по экрану, прошло безупречно-ясное отражение ветвей, скользя и качаясь не по-древесному, а с человеческим колебанием, обусловленным природой тех, кто нес это небо, эти ветви, этот скользящий фасад». Или в «Приглашении на казнь»: «…бывает, что случайное движение ветвей совпадает с жестом, понятным для глухонемого».
В романе Вирджинии Вулф «Миссис Дэллоуэй» (1925) сошедший с ума ветеран Первой мировой Септимус Смит открывает для себя новую религию:
«Но они кивали; листья были живые; деревья – живые. И листья, тысячей нитей связанные с его собственным телом, овевали его, овевали, и стоило распрямиться ветке, он тотчас с ней соглашался. Воробьи, вздымаясь и опадая фонтанчиками, дополняли рисунок – белый, синий, расчерченный ветками. Звуки выстраивались в рассчитанной гармонии; и паузы падали с такой же весомостью. Плакал ребенок. Явственно в отдалении звенел рожок. Все вместе взятое означало рождение новой религии…
– Септимус! – сказала Реция. Он страшно вздрогнул. Как бы люди не заметили».
«Новая религия» Септимуса Смита похожа и на восприятие мира юным Петей Ростовым из «Войны и мира» – мира как сочиняемой Петей фуги, и на разговор студента Ансельма со змейками в листве из романтической сказки Э.Т.А. Гофмана «Золотой горшок» (1814) – разговор, который резко обрывается «людьми», заметившими «безумные проделки студента Ансельма».
199
Шрам, например, есть на лице у де Рошфора (в романе А. Дюма «Три мушкетера», 1844):
«– Нет ли у него каких-нибудь примет, по которым его можно было бы узнать?
– О, конечно! Это господин важного вида, черноволосый, смуглый, с пронзительным взглядом и белыми зубами. И на виске у него шрам».
Миледи же, конечно, «источник смерти», «богиня смерти». Она предстает как зверь и как ожившая стихия: «Гроза разразилась около десяти часов вечера. Миледи было отрадно видеть, что природа разделяет смятение, царившее в ее душе; гром рокотал в воздухе, как гнев в ее сердце; ей казалось, что порывы ветра обдавали ее лицо подобно тому, как они налетали на деревья, сгибая ветви и срывая с них листья; она выла, как дикий зверь, и голос ее сливался с могучим голосом природы, которая, казалось, тоже стонала и приходила в отчаяние».
200
Помимо шрама (который то и дело подчеркивается тем, что двойник-антипод, задумываясь, к нему притрагивается), граф Заров обладает целым пучком других признаков двойника-антипода: он проводит героя через смерть (главный признак, суть образа), у него страшный взгляд (и он видит Боба первым), он одет в черное, он русский (для американца это то же самое, что для русского – персиянин), он говорит со своими слугами на непонятном (колдовском) языке (на русском), он дает Бобу нож, он борется с Бобом, он выпускает в Боба стрелу – и этой же стрелой Боб протыкает его, он погибает, он падает с высоты (вываливается из окна замка), он утверждает, что они с Бобом схожи характерами (и поначалу даже предлагает охотится на своих жертв сообща). Он «хозяин зверей» (свора собак которого стремится растерзать Боба). Графа Зарова в фильме оттеняет дополнительный териоморфный двойник-антипод – страшный, бородатый, до неправдоподобия звероподобный казак Иван (который на миг останавливается рядом с изображением столь же ужасного и схожего с ним кентавра, несущего похищенную девицу). Девица в замке Зарова тоже есть – и ее играет та же актриса, которая исполняет роль героини в «Кинг-Конге» (1933). Оба фильма снимались одновременно, в одном и том же месте и при сотрудничестве режиссеров.
201
Появлению двойника в рассказе предшествует загадочное появление на борту корабля скорпиона. О связи двойника-антипода со скорпионом смотрите в моей работе «Ладушки, ладушки…»
202
Вот, например, сжатие руки дьявольским двойником героя в романе Метьюрина «Мельмот Скиталец» (1820): «Вздрогнув, Мельмот вскочил с кровати – было уже совсем светло. Он осмотрелся: в комнате, кроме него, не было ни одной живой души. Он почувствовал легкую боль в правом запястье. Он посмотрел на руку: место это посинело, как будто только что его с силой кто-то сжимал».
203
Статуя. Дай руку.
Дон Гуан. Вот она… о, тяжело
Пожатье каменной его десницы!
Оставь меня, пусти – пусти мне руку…
Я гибну – кончено – о Дона Анна!
Проваливаются.
204
«Лег я навзничь, лицом вверх, иначе казалось невежливым; и в ту же минуту он сел, – осторожно подвинув меня к стене, – на край постели и положил свою руку мне на голову. Она была умеренно холодна и очень тяжела, и от нее исходили сон и тоска. В жизни моей я испытал много тяжелого, видел своими глазами смерть горячо любимого отца, не раз думал, несмотря на свою молодость, что сердце может не выдержать и разорвется от печали и горя, но такой тоски я даже не мог представить себе до этой ночи, до первого прикосновения к моему лбу этой холодной и тяжелой руки» (Леонид Андреев «Он», 1913).
205
В рассказе Леонида Андреева «Он»: «…только одного я не мог рассмотреть – его глаз. Они были освещены, как и все, и я их видел, но рассмотреть и понять мешал его взгляд, обращенный прямо на меня. Что было в этом взгляде, я не умею сказать: он был прям, неподвижен и давал ощущение почти физического прикосновения; и впечатление от него было ужасно».
206
«…мы наскоро обменялись жадными ласками, единственным свидетелем коих были оброненные кем-то темные очки».
207
В романе Сарамаго «Двойник» (2002): «И тут он вспомнил о Марии да Пас. Он представил себе другую комнату, другую кровать, ее тело, такое ему знакомое, лежащее тело Антонио Кларо, абсолютно такое же, как его собственное, и вдруг понял, что он дошел до конца, дорогу перед ним преграждает стена, на которой написано: проезда нет, пропасть, а потом увидел, что пути назад тоже нет, приведшая его сюда дорога исчезла, остался только маленький кусочек, на котором едва помещались ступни ног. Ему снился сон, но он не осознавал этого. Тоска переросла в ужас и разбудила его в тот самый миг, когда стена проломилась и огромные руки, что может быть страшнее, чем руки, выросшие из стены, стали тащить его в пропасть».
Двойника-антипода, неожиданно появляющегося из стены, я рассматриваю в работе «Ладушки, ладушки…».
208
Но и оттуда не мог я отплыть без утраты печальной:
Младший из всех на моем корабле, Ельпенор, неотличный
Смелостью в битвах, нещедро умом от богов одаренный,
Спать для прохлады ушел на площадку возвышенной кровли
Дома Цирцеи священного, крепким вином охмеленный.
Шумные сборы товарищей, в путь уж готовых, услышав,
Вдруг он вскочил и, от хмеля забыв, что назад обратиться
Должен был прежде, чтоб с кровли высокой сойти по ступеням,
Прянул спросонья вперед, сорвался и, ударясь затылком
Оземь, сломил позвонковую кость, и душа отлетела
В область Аида… (перевод В. Жуковского)
209
Прежде других предо мною явилась душа Ельпенора;
Бедный, еще не зарытый, лежал на земле путеносной.
Не был он нами оплакан; ему не свершив погребенья,
В доме Цирцеи его мы оставили: в путь мы спешили.
210
«Бросив ему платок, м-сье Пьер вскричал по-французски и оказался стоящим на руках. Его круглая голова понемножку наливалась красивой розовой кровью; левая штанина опустилась, обнажая щиколотку; перевернутые глаза, – как у всякого в такой позитуре, – стали похожи на спрута».
211
Так это происходит, например, в «Песочном человеке» Гофмана.
212
Помимо этого, Матто делает вид, что падает с каната, но повисает на нем и кувыркается. Позже, беседуя с Джельсоминой, он заговорит о предчувствии своей скорой смерти: «– Я люблю перемены, у меня такой характер. – А почему вы сказали, что должны скоро умереть? – Ты знаешь, Джельсомина, эта мысль никогда не выходит у меня из головы. Когда-нибудь я сломаю себе шею, и никто обо мне даже не вспомнит». Матто с высоты не падает (хотя и дважды намечает такое падение; второй раз это происходит в цирке: Матто появляется под куполом со своими картонными крылышками – и прыгает вниз на осла), но погибает в результате повреждения головы (что весьма типично для двойника-антипода). Кроме того, автомобиль Матто, столкнутый Дзампано с моста, переворачивается в воздухе, падает крышей вниз на берег реки и загорается (так что падение клоуна с высоты как бы состоялось, причем вниз головой).
213
Подобный обмен стоит и за историей библейских близнецов Иакова и Исава. Их мать Ревекка обкладывает руки и шею Иакова кожей козлят, чтобы их отец Исаак принял Иакова за первенца своего Исава («человека, искусного в звероловстве, человека полей», «человека косматого») и благословил его как наследника.
214
Так, в романе Сарамаго «Двойник» происходит обмен одеждой и автомобилями, а также накладной бородой.
215
Как в романе Джойса «Улисс» (1920), где зажженная сигарета Леопольда Блума, препирающегося с Гражданином (то есть с весьма мерзким националистом), соотносится с раскаленным и заостренным колом, которым Одиссей выкалывает глаз Полифему.
216
Это название намеренно заключает в себя также значение «ну и моторы!» или «чёртовы моторы!» (сравните с восклицанием “Holy shit!” ≈ «Чёрт побери!»).
217
«Хватает длинный нож, и вмиг / Повержен Ленский…»
218
«Если вы думаете, что я способен вас похитить или уничтожить, чтобы остаться в этом мире одному с тем лицом, которое у нас общее на двоих, то не бойтесь, у меня с собой не будет никакого оружия, даже перочинного ножа». Кстати сказать, любопытно, что в повести Достоевского «Двойник» (1846) двойник Голядкина (Голядкин-младший) отнимает у него (у Голядкина-старшего) важную административную бумагу именно при помощи хитрости с перочинным ножичком.
219
«Ко мне он кинулся на грудь: / Но в горло я успел воткнуть / И там два раза повернуть / Мое оружье… Он завыл, / Рванулся из последних сил, / И мы, сплетясь, как пара змей, / Обнявшись крепче двух друзей, / Упали разом – и во мгле / Бой продолжался на земле. / И я был страшен в этот миг; / Как барс пустынный, зол и дик, / Я пламенел, визжал, как он; / Как будто сам я был рожден / В семействе барсов и волков / Под свежим пологом лесов. / Казалось, что слова людей / Забыл я – и в груди моей / Родился тот ужасный крик, / Как будто с детства мой язык / К иному звуку не привык…»
220
Гумберт Гумберт в схватке с Куильти: «Мы опять вступили в борьбу. Мы катались по всему ковру, в обнимку, как двое огромных беспомощных детей. Он был наг под халатом, от него мерзко несло козлом, и я задыхался, когда он перекатывался через меня. Я перекатывался через него. Мы перекатывались через меня. Они перекатывались через него. Мы перекатывались через себя».
221
Так, в фильме Феллини «Дорога» имя клоуна Матто (двойника-антипода Дзампано) означает «безумный, сумасшедший» (и он действительно то и дело дурачится). Под стать ему, кстати сказать, и «Прекрасная Дама» – Джельсомина, которая как бы не от мира сего: «больная на голову», причем не только в конце фильма: ее «неадекватность», неприспособленность бросается в глаза с самого начала. А в конце фильма одна женщина говорит о ней (сообщая Дзампано, что Джельсомина умерла): «Была словно сумасшедшая (“era come matta”). Мой отец нашел ее на побережье». Неадекватность Джельсомины – признак ее божественности, сказочности. Само имя ее вполне подошло бы какой-нибудь фее. Между прочим, она обладает даром предсказывать погоду («Завтра будет дождь». – «Откуда ты знаешь?» – «Знаю, завтра будет дождь»). На сказочность происходящего в фильме (вроде бы вполне натуралистического) то и дело указывает и музыка вполне сказочного стиля – мелодия Матто-Джельсомины.
222
В повести Конрада «Сердце тьмы» (1902): «Но два дня спустя явился еще один субъект, назвавший себя кузеном Куртца: ему хотелось узнать о последних минутах дорогого родственника. Затем он дал мне понять, что Куртц был великим музыкантом. “Он мог бы иметь колоссальный успех”, – сказал мой посетитель, бывший, кажется, органистом. Его жидкие седые волосы спускались на засаленный воротник пиджака. У меня не было оснований сомневаться в его словах. И по сей день я не могу сказать, какова была профессия мистера Куртца – если была у него таковая – и какой из его талантов можно назвать величайшим. Я его считал художником, который писал в газетах, или журналистом, умевшим рисовать, но даже кузен его (который нюхал табак в продолжение нашей беседы) не мог мне сказать, кем он, собственно, был, Куртц был универсальным гением…»
223
Таков, например, в романе Гессе «Степной волк» (1927) музыкант Пабло, двойник Гарри (главного героя), с которым его знакомит Гермина («Прекрасная Дама»): «…познакомила меня с саксофонистом, смуглым, красивым молодым человеком испанского или южноамериканского происхождения, который, как она сказала, умел играть на всех инструментах и говорить на всех языках мира».
224
«…который, несмотря на свой кривой глаз и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков, – разумеется, когда бывал в трезвом состоянии…» У Петровича проблемы с лицом, а дальше в тексте намекается, что он вообще человек без лица: «Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головою и полез рукою на окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала, какого именно, неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки». Похожая проблема с лицом и у Квикега – экзотического гарпунщика, двойника-антипода героя (Измаила) в романе Мелвилла «Моби Дик» (1851): «Что я увидел! Какая рожа! Цвета темно-багрового с прожелтью, это лицо было усеяно большими черными квадратами. Ну вот, так я и знал: эдакое пугало мне в сотоварищи!» Голова Квикега рифмуется с мертвой головой, которую он намерен продать: «…он взял новозеландскую голову – вещь достаточно отвратительную – и запихал ее в мешок. Затем он снял шапку – новую бобровую шапку, – и тут я чуть было не взвыл от изумления. На голове у него не было волос, во всяком случае ничего такого, о чем бы стоило говорить, только небольшой черный узелок, скрученный над самым лбом. Эта лысая багровая голова была как две капли воды похожа на заплесневелый череп».
225
«– Что за ахинея! И все это как нарочно так сразу и сойдется: и у тебя падучая, и те оба без памяти! – прокричал Иван Федорович, – да ты сам уж не хочешь ли так подвести, чтобы сошлось? – вырвалось у него вдруг, и он грозно нахмурил брови».
226
Так, в романе Сарамаго «Двойник» (2002): «У него вдруг появилось такое ощущение, будто он разыгрывает с Антонио Кларо партию в шахматы и ждет его очередного хода». Образ шахмат – сквозной в этом романе.
В романе Набокова «Приглашение на казнь» (1936) м-сье Пьер (двойник-антипод) предлагает Цинциннату (герою): «Хотите сперва в шахматы? Али в картишки? В якорек умеете? Знатная игра! Давайте, я вас научу!».
227
В последней главе романа Лермонтова «Герой нашего времени» («Фаталист») рассказывается об игре Вулича и Печорина – сначала карточной, а затем перешедшей в своего рода «русскую рулетку». А в «Княжне Мери» в роковую игру играют Печорин и Грушницкий:
«– Бросьте жребий, доктор! – сказал капитан.
Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял ее кверху.
– Решетка! – закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок.
– Орел! – сказал я.
Монета взвилась и упала, звеня; все бросились к ней.
– Вы счастливы, – сказал я Грушницкому, – вам стрелять первому! Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь – даю вам честное слово».
228
Например, в повести Достоевского «Двойник»: «…с каждым шагом его, с каждым ударом ноги в гранит тротуара, выскакивало, как будто из-под земли, по такому же точно, совершенно подобному <…> господину Голядкину. И все эти совершенно подобные пускались тотчас же по появлении своем бежать один за другим, и длинною цепью, как вереница гусей, тянулись и ковыляли за господином Голядкиным-старшим, так что некуда было убегать от совершенно подобных, – так что дух захватывало всячески достойному сожаления господину Голядкину от ужаса, – так что народилась, наконец, страшная бездна совершенно подобных…»
229
Так, в повести Шарля Нодье «Смарра» (1821) герою в ночном кошмаре является некая Мероя (очевидная богиня смерти, связанная с миром змей), которая напускает на него уродца-чудовище Смарру. Смарру сопровождает тысяча ночных демонов, в том числе и «головы, только что срубленные солдатской саблей, но глядящие на меня живыми глазами и убегающие вприпрыжку на лягушачьих лапках…»
230
В павлина был превращен убитый Гермесом многоглазый Аргус.
231
Сравните: в белый цвет выкрашены лица мимов в конце фильма Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» (1966). Шахматная, полосатая и пятнистая одежда мимов подтверждает то, что герой фильма (фотограф) проник в загробный мир (об этом говорит и черно-белый костюм героя). Проникновение стало возможным благодаря убитому мужчине (увиденному на фотографии лишь после ее проявления и увеличения) и любовнице этого мужчины (сообщнице убийства). Благодаря «Прекрасной Даме» и «двойнику-антиподу». Мимы играют в теннис невидимым мячиком – подобно героям индейского мифа, спустившимся в подземный мир смерти (книга «Пополь-Вух»).
232
«С этими писаришками он связался, собственно, потому, что оба они были с кривыми носами: у одного нос шел криво вправо, а у другого влево. Это поразило Свидригайлова. Они увлекли его, наконец, в какой-то увеселительный сад, где он заплатил за них и за вход».
233
«По дороге от Замка шли два молодых человека среднего роста, оба очень стройные, в облегающих костюмах и даже лицом очень похожие. Цвет лица у них был смуглый, а острые бородки такой черноты, что выделялись даже на смуглых лицах. Несмотря на трудную дорогу, они шли удивительно быстро, выбрасывая в такт стройные ноги».
«Они сели втроем у маленького столика в зале и молча стали пить пиво. К. сидел посредине, оба помощника – справа и слева. <…> “Трудно мне будет с вами, – сказал К., все время сравнивая лица своих помощников, – ну как мне вас отличать? Ведь вы только именами и отличаетесь, а вообще похожи, как… – Он запнулся и нечаянно добавил: – Похожи, как две змеи”. Помощники усмехнулись».
234
«…братья Марфиньки – близнецы, совершенно схожие, но один с золотыми усами, а другой с смоляными». «Белокурый брат посадил чернявого к себе на плечи, и в таком положении они с Цинциннатом простились и ушли, как живая гора».
«Пустыми двойниками» является даже само имя главного героя, что становится понятно из фразы: «А вот почему ты такой скучный, кислый, Цин-Цин?» Имеется в виду Цинциннат, герой романа. Шуткой м-сье Пьера (двойника-антипода главного героя) Набоков проявляет двойническую природу имени «Цинциннат». Кстати сказать, этому Цин-Цину (по словам м-сье Пьера) собираются «делать чик-чик».
235
«– Возможно, – сказал инспектор, – но не стоит терять время на такие разговоры. Я предположил, что вы хотите пойти в банк. Так как вы каждому слову придаете значение, добавлю, я вас не заставляю идти в банк, я только предположил, что вы этого хотите. И чтобы облегчить вам этот шаг и сделать ваш приход по возможности незаметным, я и предоставил в ваше распоряжение этих трех господ, ваших коллег.
– Что? – крикнул К. и уставился на трех молодых людей.
Эти ничем не приметные худосочные юнцы, которых он воспринимал до сих пор только как посторонних людей, глазеющих на фотографии, действительно были чиновники из его банка; не коллеги – это было слишком сильно сказано и доказывало, что всеведущий инспектор знает далеко не все, – но действительно это были низшие служащие из его банка. И как это К. мог их не узнать? Насколько же он был занят разговором с инспектором и стражей, что не узнал этих троих! Суховатого Рабенштейнера, вечно размахивающего руками белокурого Куллиха с запавшими глазами и Каминера с его невыносимой улыбкой из-за хронически перекошенных мускулов лица.
– С добрым утром! – сказал К. минуту спустя, и все трое с корректным поклоном пожали протянутую руку. – Совсем вас не узнал. Значит, теперь отправимся вместе на работу?
Все трое с готовностью заулыбались и закивали, словно только этого и дожидались, а когда К. не нашел своей шляпы – она осталась в его комнате, – они все гуськом побежали туда, что, разумеется, указывало на некоторую растерянность».
236
«И повелел Господь большому киту поглотить Иону; и был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи».
237
Бульдог (звериный двойник) разрывает старый блокнот (со стихами Патерсона), а японец (двойник-чужак) дарит новый, чистый. Это заменяет разрывание, расчленение героя в обряде посвящения – с последующим его оживлением.
238
Отношения Эверетта с девушкой, которые Патерсон наблюдает в баре, противопоставлены отношениям самого Патерсона с его женой. В определенный момент Эверетт достает игрушечный пистолет, делает вид, что собирается застрелить свою девушку, а затем делает вид, что хочет выстрелить себе в висок. Патерсон валит его на пол, Док (бармен) берет игрушечный пистолет и стреляет Эверетту в лоб пластиковой пулькой. Джармуш весело обыгрывает «сущностную форму» и двойнические признаки (падение двойника-антипода, поражение его в голову и т. п.). Двойником-антиподом героя (незримым) является в фильме и поэт Уильям Карлос Уильямс, причем само имя знаменитого американского поэта напоминает сущностную форму (противопоставленностью слов «Уильям» и «Уильямс» через некий срединный элемент). Необычность (и существенность) этого имени подчеркнута в фильме (жена главного героя пару раз путает его составные части, а герой ее поправляет).
239
Грушницкий – «смугл и черноволос», Вулича отличают «высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы».
240
Примечательно, что на голове у Неизвестного – шрам (как и у Нищего). Это брат в детстве хватил его топором. Позже Неизвестный падает со скалы (он угрожал кому-то в облаках, его лихорадило – он оступился) и повреждает бедро, отчего хромает.
241
Это не случайно, а именно художественно: у настоящего Пугачева борода была русая.
242
«Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости».
243
Кроме того, отрубленная голова Пугачева «рифмуется» в повести с отрубленной головой калмыка Юлая: «Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал под шапкою лист бумаги; у другого на копье воткнута была голова Юлая, которую, стряхнув, перекинул он к нам чрез частокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта».
244
Бартону Финку предстоит бороться-обниматься с Чарли, обмениваться ботинками и т. п. (то есть их объединяет целый набор «двойнических» признаков). В определенный момент Чарли приходит к герою с коробкой, в которой, как можно предположить, находится отрезанная голова.
245
Пещера (она же чрево) людоеда (Полифема) в сказках нередко заменяется на печь. Например, в английской сказке «Джек и бобовый стебель» («Jack and the Beanstalk»):
«Ну, жена людоеда была, в конце концов, не такой уж плохой. Поэтому она отвела Джека на кухню и дала ему ломоть хлеба, сыр и кувшин молока. Но не успел Джек управиться со всем этим, как – бух! бух! бух! – весь дом задрожал от шума чьих-то приближающихся шагов.
– Боже мой, это мой старик! – сказала жена людоеда. – Что же мне делать? Иди-ка сюда и прыгай внутрь.
И она запихнула Джека в печь, прямо когда людоед уже входил в дом».
246
Существует также концепция, дополняющая концепцию о «чуре» как о предке, согласно которой «чур» – это фаллос («кур», то есть «петушок»), а также пограничная герма («чурка»), переступить через которую будет «чересчур» (сноска моя. – И. Ф.).
247
Связующим звеном между пещерой и печью в истории культуры (а это огромный временной зазор) является, видимо, открытый очаг в доме. Печь – как бы модель дома (или пещеры) с очагом. Сначала прикладывали ладонь к стене пещеры, затем – к стене или полу дома (под которым были захоронены предки), затем – к печи (И. Ф.).
248
Пристройка у печи с входом в подполье, а также само подполье или погреб.
249
Агранович утверждает (и старается показать) в этой статье, что слово «печаль» от «печи» и произошло.
250
Например: «Моя рука сжимает ручку десертного ножа. Я чувствую черную деревянную ручку. Ее держит моя рука. Моя рука. Лично я предпочел бы не трогать ножа: чего ради вечно к чему-нибудь прикасаться? Вещи созданы не для того, чтобы их трогали. Надо стараться проскальзывать между ними, по возможности их не задевая. Иногда возьмешь какую-нибудь из них в руки – и как можно скорее спешишь от нее отделаться. Нож падает на тарелку».
251
Поверхность воды, кажется, соотносилась с поверхностью камня и в сцене с галькой: «Я увидел нечто, от чего мне стало противно, но теперь я уже не знаю, смотрел ли я на море или на камень».
252
Паука в фильме не видно (он – в воображении Карин), однако в начале фильма «Персона» (1966) паук появляется (равно как имеет место и жест прикладывания ладоней – к мутному стеклу).
253
Смотрите мою работу «Весь горизонт в огне».
254
«Ночь, улица, фонарь, аптека…»
255
Усмехался и кот: «…в уголках пасти этого чучела залегли две глубокие складки, и казалось, он вот-вот прыснет со смеху…»
256
В этом сне реализуется «сущностная форма»: герой (Лоран) ↔ «хозяйка жизни и смерти» (Тереза) ↔ двойник-антипод (живой мертвец Камилл).
257
Похоже на угол, в котором Раскольников видит (во сне) салоп, превращающийся затем в убитую им (но при этом смеющуюся над ним) старуху: «В самую эту минуту в углу, между маленьким шкафом и окном, он разглядел как будто висящий на стене салоп».
258
Тереза также после убийства Камилла словно превращается в труп, а лицо ее начинает напоминать тот пассаж Пон-Нёф, в котором она живет: «За бумажными чепцами, развешанными на ржавой проволоке, снова появилось лицо Терезы, но оно стало еще бледнее, тусклее и землистее и приобрело какую-то зловеще-спокойную неподвижность». Или: «Сырой, отвратительный пассаж, со снующими взад и вперед жалкими, мокрыми прохожими, с зонтов которых на каменный пол капает вода, казался ей каким-то мрачным закоулком, какой-то грязной зловещей трущобой, где никто не станет разыскивать и тревожить ее. Временами, чувствуя острый запах сырости и мутную мглу, стелющуюся вокруг, она воображала, будто ее заживо похоронили; ей казалось, что она под землей, в общей могиле, среди копошащихся мертвецов».
259
Так буквальным образом приходят в соприкосновение стена и териоморфный «живой мертвец».
260
Еще до того, как Камилл утонул и стал являться своим убийцам во всякого рода грезах, он предстает в романе «живым мертвецом» – из-за своей болезненности. Так, Тереза говорит Лорану: «…он всех нас переживет, полуживые не умирают».
261
Лоран на самом деле претерпевает изменения в ходе этого «обряда посвящения». В начале романа пошлый негодяй и бездарный художник, в конце романа он обретает некую психологическую утонченность и даже художественный талант.
262
Бросок Камилла в реку (когда Камилл кусает бросающего) и бросок кота в окно (когда он также успевает укусить Лорана) рифмуются.
263
Эта деталь очевидно приглянулась графу де Лотреамону (псевдоним Изидора Дюкасса) – и он помещает ее в «Песни Мальдорора» (1869): «…нащупывает у себя на шее зияющую рану, в которой, как в своем гнезде, устраивается тарантул…»
264
В подлиннике вместо «черного монаха» – «le moine bourru» («сердитый монах») – призрак, бродящий ночью по улицам города и избивающий тех, кто запаздывает вернуться в свой дом.
265
Позже дон Жуан, высказывая свое недоверие к случившемуся чуду, словно наметит способ, каким будет вводится оживший портрет или ожившая статуя в позднейшей литературе (начиная с конца XVIII века): «Дон Жуан (Сганарелю). Что бы там ни было, довольно об этом. То сущая безделица: нас могла ввести в заблуждение игра теней, могла обмануть дымка, застилавшая нам взор».
266
Вспомним и Грегора Замзу, а именно его жизнь коммивояжера («изо дня в день в разъездах»), подчиненную «расписанию поездов».
267
«Встрепенуться» природа может и в самом человеке, как понимает герой «Записок из подполья»: «…а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к чёрту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить!»
268
Эрос обессилел – отсюда эти бедные, страдающие фаллосы, которым так достается в фантазии Антуана. В другом месте романа мы читаем: «Нет, я не могу смотреть на вещи такими глазами. Дряблость, слабость – да. Деревья зыбились. И это значило, что они рвутся к небу? Скорее уж они никли; с минуты на минуту я ждал, что стволы их сморщатся, как усталый фаллос, что они съежатся и мягкой, черной, складчатой грудой рухнут на землю. Они не хотели существовать, но не могли не существовать – вот в чем загвоздка».
269
Эта стена, кажется, ничего особенного не выражает. Но примечательно, что в истории с Ипполитом возникает и другая стена, уже вполне символичная:
«Он закрыл руками лицо и задумался.
– Вот что: когда вы давеча прощались, я вдруг подумал: вот эти люди, и никогда уже их больше не будет, и никогда! И деревья тоже, – одна кирпичная стена будет, красная, Мейерова дома… напротив в окно у меня…<…> Да, эта Мейерова стена может много пересказать! Много я на ней записал. Не было пятна на этой грязной стене, которого бы я не заучил. Проклятая стена! А все-таки она мне дороже всех павловских деревьев, то есть должна бы быть всех дороже, если бы мне не было теперь все равно».
270
Туман пронизывает и роман Сартра. Например: «Из щели под дверью просачивался туман, мало-помалу он поднимется кверху и затопит все». И у Золя в описании пассажа Пон-Нёф мы читали: «В погожие летние дни, когда неумолимое солнце накаливает улицы, сюда проникает через свод грязной стеклянной крыши какой-то белесый свет, скупо разливающийся по проходу». Примечательно в этом смысле и «озеро Мутево» в романе Андрея Платонова «Чевенгур» – символ остановки времени и окончания истории.
271
Тот же отчуждающий свет – в «Тошноте»: «Перехожу дорогу – на другой стороне улицы одинокий газовый фонарь, словно маяк на краю света, освещает щербатый, искалеченный забор».
272
«Тошнота»: «Холодное солнце выбелило пыль на оконных стеклах. Бледное, белесоватое небо. Утром подморозило ручейки.
Я сижу у калорифера, вяло переваривая пищу. Я знаю заранее – сегодняшний день потерян. Ничего путного мне не сделать, разве когда стемнеет. И все из-за солнца: оно подернуло позолотой грязную белую мглу, висящую над стройкой, оно струится в мою комнату, желтоватое, бледное, ложась на мой стол четырьмя тусклыми, обманчивыми бликами.
На моей трубке мазок золотистого лака, вначале он привлекает взор своей иллюзорной праздничностью, но вот ты глядишь на трубку, и лак плавится, и не остается ничего, кроме куска дерева, и на нем большое блеклое пятно. И так со всем, решительно со всем, даже с моими руками. Когда бывает такое солнце, лучше всего лечь спать. <…> Отличный день, чтобы критически оценить самого себя: холодные лучи, которые солнце бросает на все живое, словно подвергая его беспощадному суду, в меня проникают через глаза: мое нутро освещено обесценивающим светом». Струящееся бледное солнце Сартра – лишь источник «гнусного мармелада».
273
«Тошнота»: «Во мне лопнула какая-то пружина – я могу двигать глазами, но не головой. Голова размякла, стала какой-то резиновой, она словно бы еле-еле удерживается на моей шее – если я ее поверну, она свалится».
274
Сравните со словами Пабло Пикассо: «Tout acte de création est d’abord un acte de destruction». – «Каждый акт творения есть первоначально (или: прежде всего) акт разрушения». А также с сентенцией Ганса Касторпа из романа Томаса Манна «Волшебная гора»: «К жизни есть два пути: один – обычный, прямой и порядочный. Второй – дурен, он ведет через смерть, и это – гениальный/духовный путь!» («Zum Leben gibt es zwei Wege: Der eine ist der gewöhnliche, direkte und brave. Der andere ist schlimm, er führt über den Tod, und das ist der geniale Weg!»)
275
Два примера на положительное, чудесное (мифическое) остранение из других произведений Толстого.
1) Вот Оленин из повести «Казаки», едущий на извозчике: «Иногда он вглядывался в какой-нибудь дом и удивлялся, зачем он так странно выстроен; иногда удивлялся, зачем ямщик и Ванюша, которые так чужды ему, находятся так близко от него и вместе с ним трясутся и покачиваются от порыва пристяжных, натягивающих мерзлые постромки, и снова говорил: “Славные, люблю”, – и раз даже сказал: “Как хватит! Отлично!” И сам удивился, к чему он это сказал, и спросил себя: “Уж не пьян ли я?” Правда, он выпил на свою долю бутылки две вина, но не одно вино производило это действие на Оленина».
2) А вот Анна Каренина в поезде: «Она провела разрезным ножом по стеклу, потом приложила его гладкую и холодную поверхность к щеке и чуть вслух не засмеялась от радости, вдруг беспричинно овладевшей ею. Она чувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются все туже и туже на какие-то завинчивающиеся колышки. Она чувствовала, что глаза ее раскрываются больше и больше, что пальцы на руках и ногах нервно движутся, что внутри что-то давит дыханье и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с необычайною яркостью поражают ее. На нее беспрестанно находили минуты сомнения, вперед ли едет вагон, или назад, или вовсе стоит. Аннушка ли подле нее, или чужая? “Что там, на ручке, шуба ли это, или зверь? И что сама я тут? Я сама или другая?” Ей страшно было отдаваться этому забытью. Но что-то втягивало в него, и она по произволу могла отдаваться ему и воздерживаться. Она поднялась, чтоб опомниться, откинула плед и сняла пелерину теплого платья. На минуту она опомнилась и поняла, что вошедший худой мужик в длинном нанковом пальто, на котором недоставало пуговицы, был истопник, что он смотрел на термометр, что ветер и снег ворвались за ним в дверь; но потом опять все смешалось… Мужик этот с длинною талией принялся грызть что-то в стене, старушка стала протягивать ноги во всю длину вагона и наполнила его черным облаком; потом что-то страшно заскрипело и застучало, как будто раздирали кого-то; потом красный огонь ослепил глаза, и потом все закрылось стеной. Анна почувствовала, что она провалилась. Но все это было не страшно, а весело».
276
Дмитрий Оленин (из повести Льва Толстого «Казаки», 1863), будучи в лесу облеплен комарами, понял (столь же неожиданно для себя) то же самое, что и Антуан: «“…около меня, пролетая между листьями, которые кажутся им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары; один, два, три, четыре, сто, тысяча, миллион комаров, и все они что-нибудь и зачем-нибудь жужжат около меня, и каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам”. Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары. “Сюда, сюда, ребята! Вот кого можно есть”, – жужжат они и облепляют его. И ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар, или такой же фазан или олень, как те, которые живут теперь вокруг него».
Сравните: в повести «Слова» Сартр вспоминает свое ощущение, когда он, будучи ребенком, раздавил муху: «Насекомоубийца, я занимаю место жертвы, я сам насекомое. Я муха, всегда был мухой. Дальше некуда».
277
Образ, достойный кисти Сальвадора Дали.
278
«Ужас» был переведен на немецкий в 1928 году и, по мнению Набокова, мог повлиять на «Тошноту» Сартра.
279
Пример из романа Набокова «Дар»: «Знаешь: потолок, па-та-лок, pas ta loque (что по-французски значит «не твоя тряпка». – И. Ф.), патолог, – и так далее, – пока “потолок” не становится совершенно чужим и одичалым, как “локотоп” или “покотол”. Я думаю, что когда-нибудь со всей жизнью так будет».
280
Стефан Малларме сформулировал это следующим образом: «Смысл – если стихотворение вообще имеет таковой – блуждает во внутренних отражениях слов» (письмо Казалису, 1868 год).
281
Герою повести «Отчаяние» (Герману) кажется, что он встретил двойника. Но он, видимо, ошибся (ему только померещилось). Повествование ведется от первого лица: автором повести выступает Герман, возомнивший себя гениальным писателем. Текст, написанный Германом о встрече с двойником и о попытке совершить гениальное преступление (убийство двойника с целью получения страховки), столь же выразительно нелеп (то есть представляет собой пародию), как и сама описанная в этом тексте неудачная затея.
282
Эта страшная пустая комната есть образ, аналогичный образу стены. По такой комнате было бы удобно ползать Грегору Замзе.
283
Сравните, например, с последней строкой стихотворения Пушкина «Бесы»: «Надрывая сердце мне»: НДР – РДН. Или с зеркальным двойничеством (причем вновь отзывающемся в самом сердце) в последней строке стихотворения «Отцы пустынники и жены непорочны»: «И дух смирения, терпения, любви / И целомуДРия мне в сеРДце оживи». Видимо, и сами эти два стихотворения (по теме противоположные, как тьма и свет) складываются в некое единство, отражают друг друга.
284
И у Бодлера разрозненный (разлагающийся мир) вдруг звучит: Et ce monde rendait une étrange musique («и этот мир издавал странную музыку»).
285
В названиях фильмов, входящих в трилогию Кесьлёвского, отражены три цвета французского флага: синий, белый, красный – свобода, равенство, братство.
286
«Сельская честь» (итал.). Поставить оперу было бы ошибкой, ведь опера – это фальшь, «декорация» (тут опять просвечивает Толстой).
287
Пластинка и игла – символы твердости и четкости, противоположность «гнусному мармеладу». Вращающийся круг пластинки – это магический круг, упорядочивающий мир (пространство и время) и выделяющий космос из хаоса.
288
Этель Уотерс (Ethel Waters). И вместе с тем Великая Матерь, рождающая космос из хаоса.
289
Адольф – кузен хозяйки заведения, заменяющий ее в данный момент. Это его сиреневые подтяжки упоминались выше.
290
Придет день, и ты затоскуешь обо мне, милый (англ.).
291
Как Петя Ростов. Антуан не просто воспринимает художественное произведение, он становится частью художественного произведения. Мальчик шагнул в книжку и стал ее персонажем.
292
Уточним: вещи, окружающие Антуана, стали частью художественного произведения (кружка стала необходимой именно в этом смысле). И тем самым каждая вещь стала собой, стала свободной.
293
И собственные движения Антуан теперь воспринимает как художественные.
294
И даже пошлый (то есть обделенный какой-либо художественностью) Адольф становится частью единого кино.
295
Что такое счастье? Персонаж (во всяком случае, «главный герой») вдруг ощущает себя автором художественного произведения, в котором он находится. Он внутри музыки – и вместе с тем ею управляет: «Ах, да, ведь это я во сне, – качнувшись вперед, сказал себе Петя. – Это у меня в ушах. А может быть, это моя музыка. Ну, опять. Валяй, моя музыка! Ну!..»
296
Коротко говоря, этот бедняга – Дон Кихот.
297
Например, в кельтском фольклоре рыжие волосы человека (или красная шапка на нем), а также рыжая грива лошади (или красные лошадиные глаза и уши) свидетельствуют о потусторонней, огненной сущности человека или животного.
298
То есть остранение со знаком «плюс».
299
Приключение – это сюжетный, художественный отрезок среди или на фоне «гнусного мармелада». Это возрождение времени – из пространства. Станция стряхивает с себя свое окостенение.
300
Человек-мир – вместо человека-насекомого (тоже многоножка, но теперь со знаком «плюс»). И в продолжении данного текста мы видим, как весь мир входит в человека.
301
Волосы Прекрасной Дамы того же цвета, что и у ее рыцаря.
302
Прекрасная Дама – «источник жизни и смерти». Вспомните «Падаль» Бодлера: «Et le ciel regardait la carcasse superbe (и небо смотрело, как великолепный остов) / Comme une fleur s’épanouir (словно цветок, распускается)».
303
Латания – декоративное растение рода пальм с широкими веерообразными листьями.
304
С одной стороны, Мандельштам тут не совсем справедлив: Вячеслав Иванов, выдвигая формулу “а realibus ad realiora” (например, в работе «Мысли о символизме», 1912), имеет в виду не сочетание образов по формуле А = Б («Роза кивает на девушку, девушка на розу»), но строение образа, ведущее к истинной реальности (просвечивающей сквозь предметность). С другой стороны, в практике поэтов-символистов мы действительно сплошь и рядом видим формулу А = Б, симулирующую “а realibus ad realiora”. Видимо, поэзии нужно было пройти такой этап – этап расшатывания, размывания образов (от действительного к призрачному, как сформулировал в своих лекциях о символизме Андрей Синявский).
305
В этом, видимо, и причина образа «двойной луны» («Всходит месяц обнаженный / При лазоревой луне…»). Владимир Соловьев (в рецензии на брюсовский сборник «Русские символисты») отозвался об этом курьезе так: «…замечу, что обнаженному месяцу всходить при лазоревой луне не только неприлично, но и вовсе невозможно, так как месяц и луна суть только два названия для одного и того же предмета…» Смех смехом, но месяц двоится не только потому, что отражается на «эмалевой стене», но также из-за тавтологической установки всего стихотворения.
306
По преимуществу (фр.).
307
В первобытном обряде посвящения имело место испытание огнем, подчас весьма жестокое. Например, взрослые воины, схватив мальчиков, удерживали их у костра, пока на их теле не выгорят все волосы. Или связывали и клали рядом с костром. Когда веревки на теле перегорали, мальчики могли освободиться.
308
А. Н. Афанасьев в статье «Вода» приводит следующую русскую сказку (с аналогичным сюжетом»): «Был у мужика мальчик-семилеток – такой силач, какого нигде не видано и не слыхано! Послал его отец дрова рубить; он повалил целые деревья, взял их словно вязанку дров и понес домой. Стал через мост переправляться, увидала его морская рыба-кит, разинула пасть и сглотнула молодца со всем как есть – и с топором, и с деревьями. Мальчик и там не унывает, взял топор, нарубил дров, достал из кармана кремень и огниво, высек огня и зажег костер. Невмоготу пришлось рыбе: жжет и палит ей нутро страшным пламенем! Стала она бегать по синю морю, во все стороны так и кидается, из пасти дым столбом – точно из печи валит; поднялись на море высокие волны и много потопили кораблей и барок, много потопили товаров и грешного люду торгового; наконец прыгнула та рыба высоко и далеко, пала на морской берег да тут и издохла. Четверо суток работал мальчик топором, пока прорубил у нее в боку отверстие и вылез на вольный белый свет».
309
Впервые – в журнале «Литература» (№ 1 за 2015 год.)
310
Такой опыт, конечно, можно проделать не только с русскими словами. Полюбуйтесь на английский пример подобного всматривания в слово – из «Оды к соловью» Джона Китса:
Forlorn! the very word is like a bell (затерянный/покинутый! само слово подобно колоколу)
To toll me back from thee to my sole self (чтобы звонить мне в ответ: «обратно» от тебя к моему одинокому существу/к моему одинокому я)!
Или на немецкий – из сказочной повести Э.Т.А. Гофмана «Повелитель блох»: «Дурным предзнаменованием казалось старому Тису то, что, будучи еще маленьким ребенком, Перегринус предпочитал разные бляхи дукатам, а к большим денежным мешкам и счетным книгам возымел вскоре решительное отвращение. Но уже совсем удивительно было то, что слова “вексель” он просто слышать не мог без судорожного трепета: он уверял, что при этом испытывает такое ощущение, точно скоблят острием ножа взад и вперед по стеклу» (Was aber am seltsamsten schien, war, dass er das Wort: Wechsel, nicht aussprechen hören konnte, ohne krampfhaft zu erbeben, indem er versicherte, es sei ihm dabei so, als kratze man mit der Spitze des Messers auf einer Glasscheibe hin und her).
311
Сравните с тем, как в Библии расширением имени человека может быть нарисована картинка его судьбы. Например, Иаков, предсказывая судьбу сыну Гаду («гад» на древнееврейском языке – «счастье, удача»), извлекает ее из звучания его имени: «Гад гэдуд йэгудэнну вэhу ягуд ‘акев» («Гад – толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам»). Это, конечно, не только предсказание, но и заклинание.
312
Осип Мандельштам в «Разговоре о Данте» пишет: «Всякий период стихотворной речи – будь то строчка, строфа или цельная композиция лирическая – необходимо рассматривать как единое слово. Когда мы произносим, например, “солнце”, мы не выбрасываем из себя готового смысла, – это был бы семантический выкидыш, – но переживаем своеобразный цикл.
Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку. Произнося “солнце”, мы совершаем как бы огромное путешествие, к которому настолько привыкли, что едем во сне. Поэзия тем и отличается от автоматической речи, что будит нас и встряхивает на середине слова. Тогда оно оказывается гораздо длиннее, чем мы думали, и мы припоминаем, что гoворить – значит всегда находиться в дороге».
313
Сравните: Фердинанд де Соссюр в записях об анаграммах отмечает, что в ведийском гимне (например, посвященном богу огня Агни или громовнику Индре) повторяются слоги соответствующего священного имени. Исходя из этого, он высказывает предположение, что поэзия родилась из подобных развернутых имен: «Вначале были только маленькие сочинения, состоявшие из 4–8 стихов. По своему содержанию это были либо магические формулы, либо молитвы, либо погребальные стихи, а может быть, и хоровые, то есть, как будто случайно, их состав соответствовал тому, что мы в своей классификации называем “лирикой”. <…> Основанием для появления анаграмм могло бы быть религиозное представление, согласно которому обращение к богу, молитва, гимн не достигают своей цели, если в их текст не включены слоги имени бога».
314
Иными словами, здесь шесть стоп. Каждая ямбическая стопа – это сочетание безударного и ударного слогов. Стих (то есть строка) шестистопного ямба, кроме того, распадается на две половинки (по три стопы в каждой) с паузой (цезурой) посередине. Пауза возникает из-за того, что третья стопа (первой половинки) непременно совпадает с концом слова: «Кузнечик дорогой, / коль много ты блажен…» Существует правило: в шестистопном ямбе обязательна цезура на третьей стопе.
315
Правда, звуки З и Ж близки по своей артикуляции (оба звука – звонкие, щелевые, переднеязычные, только З – зубной, а Ж – нёбный). Так что можно и так сказать: З слова «кузнечик» перерастает в Ж слов «блажен», «жизнь». Нечто звенящее и сухое переходит в нечто влажное, сочное.
316
«То ты еси», это есть ты – индуистское «великое изречение», встречающееся в «Чхандогья-упанишаде» (начало 1-го тыс. до н. э.), в диалоге мудреца Уддалаки с сыном.
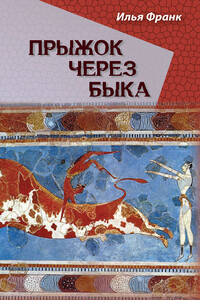
Почему, оказавшись между двух людей с одинаковыми именами, вы можете загадывать желание? На сей насущнейший вопрос и отвечает эта книга. Если же серьезно, то она рассказывает о зверином двойнике героя – в искусстве вообще и в литературе в частности.

Предлагаемая вниманию читателей грамматика написана не строгим академическим, а живым, доступным для, понимания языком. Изложение материала ведется в форме рассказа, в стиле устного объяснения. При этом делается акцент на те моменты немецкой грамматики, которые вызывают затруднение. Вместо скучных таблиц вы найдете в книге несколько основных правил-подсказок, которые позволят скорректировать вашу речь "на ходу", в самом процессе говорения, а не вспоминая таблицу после уже сделанной ошибки. Книга предназначена как для начинающих (поскольку не предполагает у читателя никаких предварительных познаний в немецком языке и вводит материал последовательно и постепенно), так и для совершенствующих свой немецкий (поскольку содержит весьма большой материал – вплоть до тонкостей, в которых путаются и сами немцы).
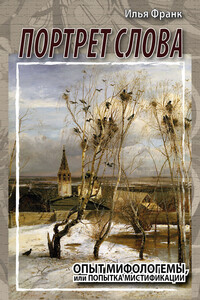
Данная книга посвящена звуковому символизму слов и некоторым другим странным вещам, случающимся в языке, произведении искусства и даже в обыденной жизни.Являясь чем-то вроде ментальной водки, эта книга противопоказана людям, которым и без того хорошо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Данная книга посвящена звуковому символизму слов и некоторым другим странным вещам, случающимся в языке, произведении искусства и даже в обыденной жизни.Являясь чем-то вроде ментальной водки, эта книга противопоказана людям, которым и без того хорошо.

Эта книга посвящена нескольким случаям подделки произведений искусства. На Западе фальсификация чрезвычайно распространена, более того, в последнее время она приняла столь грандиозные размеры, что потребовалось введение специальных законов, карающих подделку и торговлю подделками, и, естественно, учреждение специальных ведомств и должностей для борьбы с фальсификаторами. Иными словами, проблема фальшивок стала государственной проблемой, а основу фальсификаций следует искать в глубинах экономического и социального уклада капиталистического общества.

Академический консенсус гласит, что внедренный в 1930-е годы соцреализм свел на нет те смелые формальные эксперименты, которые отличали советскую авангардную эстетику. Представленный сборник предлагает усложнить, скорректировать или, возможно, даже переписать этот главенствующий нарратив с помощью своего рода археологических изысканий в сферах музыки, кинематографа, театра и литературы. Вместо того чтобы сосредотачиваться на господствующих тенденциях, авторы книги обращаются к работе малоизвестных аутсайдеров, творчество которых умышленно или по воле случая отклонялось от доминантного художественного метода.

Основание и социокультурное развитие Санкт-Петербурга отразило кардинальные черты истории России XVIII века. Петербург рассматривается автором как сознательная попытка создать полигон для социальных и культурных преобразований России. Новая резиденция двора функционировала как сцена, на которой нововведения опробовались на практике и демонстрировались. Книга представляет собой описание разных сторон имперской придворной культуры и ежедневной жизни в городе, который был призван стать не только столицей империи, но и «окном в Европу».

Паскаль Казанова предлагает принципиально новый взгляд на литературу как на единое, развивающееся во времени литературное пространство, со своими «центрами» и периферийными территориями, «столицами» и «окраинами», не всегда совпадающими с политической картой мира. Анализу подвергаются не столько творчество отдельных писателей или направлений, сколько модели их вхождения в мировую литературную элиту. Автор рассматривает процессы накопления литературного «капитала», приводит примеры идентификации национальных («больших» и «малых») литератур в глобальной структуре. Книга привлекает многообразием авторских имен (Джойс, Кафка, Фолкнер, Беккет, Ибсен, Мишо, Достоевский, Набоков и т. д.), дающих представление о национальных культурных пространствах в контексте вненациональной, мировой литературы. Данное издание выпущено в рамках проекта «Translation Projet» при поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) — Россия и Института «Открытое общество» — Будапешт.
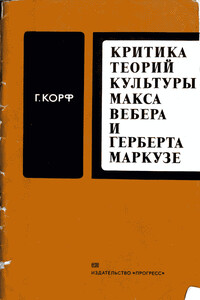
Аннотация издательства: «Книга представляет собой критический очерк взглядов двух известных буржуазных идеологов, стихийно отразивших в своих концепциях культуры духовный кризис капиталистического общества. Г. Корф прослеживает истоки концепции «прогрессирующей рационализации» М. Вебера и «критической теории» Г. Маркузе, вскрывая субъективистский характер критики капитализма, подмену научного анализа метафорами, неисторичность подхода, ограничивающегося поверхностью явлений (отрицание общественно-исторической закономерности, невнимание к вопросу о характере способа производства и т.

"Ясным осенним днем двое отдыхавших на лесной поляне увидели человека. Он нес чемодан и сумку. Когда вышел из леса и зашагал в сторону села Кресты, был уже налегке. Двое пошли искать спрятанный клад. Под одним из деревьев заметили кусок полиэтиленовой пленки. Разгребли прошлогодние пожелтевшие листья и рыхлую землю и обнаружили… книги. Много книг.".