Пространство библиотеки: Библиотечная симфония - [5]
Завершая введение признаюсь, что, задумывая эту книгу, я, как ни покажется читателю странным, уже знал её последнюю фразу. Эта последняя фраза взята из рассказа В. Набокова «Красавица». Набоков так заключает рассказ: «Это всё. То есть может быть и имеется какое-нибудь продолжение, но мне оно неизвестно, и в таких случаях, вместо того, чтобы теряться в догадках, повторяю за весёлым королём из моей любимой сказки: Какая стрела летит вечно? — Стрела, попавшая в цель»[18] (Выделено мною. — В.Л.)
Окончание рассказа звучит странно: стрела попадает в цель, но движение не прекращается. Достижение цели не означает её потерю. Если целью было познание личностью окружающего мира, то, поразив такую цель стрелой, движение к познанию не останавливается и становится вечным.
Allegro Moderato — Библиотека как метатекст
Это некая поразительная эстафета, которая как бы предваряется универсальным опытом Баха (у которого взято всё основное): Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс, Вагнер, Малер, Шенберг, Берг, Веберн. Её можно представить себе как некоего гениального долгожителя, который родился под фамилией Гайдн и умер под фамилией Шенберг, как некое восхождение, непрерывную единую линию, единый пласт сознания.
Н.Н. Каретников. «Темы с вариациями»
В первой части «симфонии в прозе», уважаемый читатель, мною будет сделана попытка построить общую формальную модель Библиотеки. В широком смысле библиотека есть некоторое пространство, включающее в себя собрание всех текстов, написанных человечеством в ходе его исторического развития (метатекст)[19]. Сам замысел такой работы предполагает отразить в модели библиотеки не только особенности её построения в прошлом и настоящем, но и субъективную сферу — поведение людей, населявших её и обитающих сегодня в пространстве текстов. Они разные, эти люди, у каждого из них свой характер, своё понимание библиотеки, свой путь, которому они следуют.
Для немногих библиотека — цель и смысл жизни; попытка через изучение прошлого лучше понять то, что происходит сегодня, увидеть завтра; возможность соприкоснуться с красотой и гармонией книги. Для большинства — обычная работа: сохранение, разыскание, поиски, нахождение нужного читателю материала. Но и те и другие не перестают удивляться, огорчаться и радоваться жизни. Перефразируя Ш. Фурье, можно утверждать, что сила притяжения в пространстве библиотеки пропорциональна судьбам живущих в нём людей[20].
Понимание библиотеки в широком контексте формировалось у меня постепенно, в ходе рассуждений и дискуссий с коллегами, собственных наблюдений и впечатлений от того, как изменяется потребность в библиотеке у общества, какой она станет завтра, как будут с ней общаться новые читатели. Чем больше меня захватывали эти вопросы, тем отчётливее японимал, что библиотека, как и вся жизнь на Земле, развивается не по направлению «к чему-то», а только «от чего-то».
Меняется архитектура библиотеки, иным становится внутреннее её наполнение, появляется нечто новое в поведении библиотекарей и читателей. Уже не срабатывают стереотипы. Расширяются границы библиотечного общения (архив, музей, интернет); требуется иной подход к осмыслению происходящего. Так возникает проблема нахождения границ библиотечного и небиблиотечного. Границы эти подвижны и гибки, они меняются в заисимости от особенностей развития общества, науки и культуры в соответствующую эпоху. Но это не означает, что пространство библиотеки развивается по кем-то написанному сценарию. Напротив, оно, как творение человеческого разума, продолжает пребывать в постоянном поиске гармонии.
Я хочу начать изложение первой части с аллегорической истории. Моя цель — показать, чем знания, зафиксированные в мире текстов и образующие библиотеку, отличаются от иных форм представления реальности[21].
Вообразим себе, что где-то в Тихом океане есть остров, который по какой-то невероятной причине так и не был до сих пор открыт. На этом острове живут люди, полностью оторванные от внешнего мира. Много лет тому назад на остров были выброшены штормом два англичанина и книги с потерпевшего крушение корабля. Местные жители их спасли вместе с книгами, приняли в касту жрецов (предположим такая была на острове): англичане научили жрецов читать и понимать свой язык, и вскоре английский стал религиозным языком на этом острове. Только жрецы владели им и передавали знания из поколения в поколение вместе со спасёнными книгами.
Представим себе, что главным бедствием островитян были внезапно налетающие ураганы, спастись от которых можно было только в пещере, находящейся на горе. Поэтому предсказание урагана — это жизненно важная задача для обитателей острова. Изучив английский язык и читая книги, жрецы обнаружили тексты, в которых содержалась информация об ураганах и, что ещё важнее, набор прогностических сведений о надвигающемся бедствии. Таким образом, на острове появились избранные люди, способные применять зафиксированные в текстах знания и, основываясь на них, спасать других.
Представим себе, что у жрецов есть оппозиция. Эти люди не верят, что жрецы, обладая книжными знаниями, предсказывают приближение урагана. Они хотят научиться сами предсказывать его приход. Эти люди тщательно записывают свои наблюдения погоды: характер облаков, скорость их движения, цвет солнца при его заходе. Кроме того, они разработали свой метод записи и интеграции полученной информации. Иногда этим людям удаётся предсказать приход урагана, иногда нет; видимо, они предсказывают его приближение хуже жрецов…

Новая искренность стала глобальным культурным феноменом вскоре после краха коммунистической системы. Ее влияние ощущается в литературе и журналистике, искусстве и дизайне, моде и кино, рекламе и архитектуре. В своей книге историк культуры Эллен Руттен прослеживает, как зарождается и проникает в общественную жизнь новая риторика прямого социального высказывания с характерным для нее сложным сочетанием предельной честности и иронической словесной игры. Анализируя этот мощный тренд, берущий истоки в позднесоветской России, автор поднимает важную тему трансформации идентичности в посткоммунистическом, постмодернистском и постдигитальном мире.

По убеждению японцев, леса и поля, горы и реки и даже людские поселения Страны восходящего солнца не свободны от присутствия таинственного племени ёкай. Кто они? Что представляет собой одноногий зонтик, выскочивший из темноты, сверкая единственным глазом? А сверхъестественная красавица, имеющая зубастый рот на… затылке? Всё это – ёкай. Они невероятно разнообразны. Это потусторонние существа, однако вполне материальны. Некоторые смертельно опасны для человека, некоторые вполне дружелюбны, а большинство нейтральны, хотя любят поиграть с людьми, да так, что тем бывает отнюдь не весело.

Книга посвящена истории отечественной фотографии в ее наиболее драматичный период с 1917 по 1955 годы, когда новые фотографические школы боролись с традиционными, менялись приоритеты, государство стремилось взять фотографию под контроль, репрессируя одних фотографов и поддерживая других, в попытке превратить фотографию в орудие политической пропаганды. Однако в это же время (1925–1935) русская фотография переживала свой «золотой век» и была одной из самых интересных и авангардных в мире. Кадры Второй мировой войны, сделанные советскими фотографами, также вошли в золотой фонд мировой фотографии. Книга адресована широкому кругу специалистов и любителей фотографии, культурологам и историкам культуры.
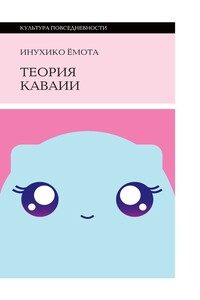
Современная японская культура обогатила языки мира понятиями «каваии» и «кавайный» («милый», «прелестный», «хорошенький», «славный», «маленький»). Как убедятся читатели этой книги, Япония просто помешана на всем милом, маленьком, трогательном, беззащитном. Инухико Ёмота рассматривает феномен каваии и эволюцию этого слова начиная со средневековых текстов и заканчивая современными практиками: фанатичное увлечение мангой и анимэ, косплей и коллекционирование сувениров, поклонение идол-группам и «мимимизация» повседневного общения находят здесь теоретическое обоснование.

Данное интересное обсуждение развивается экстатически. Начав с проблемы кризиса славистики, дискуссия плавно спланировала на обсуждение академического дискурса в гуманитарном знании, затем перебросилась к сюжету о Судьбах России и окончилась темой почтения к предкам (этакий неожиданный китайский конец, видимо, — провидческое будущее русского вопроса). Кажется, что связанность замещена пафосом, особенно явным в репликах А. Иванова. Однако, в развитии обсуждения есть своя собственная экстатическая когерентность, которую интересно выявить.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .