Пространство библиотеки: Библиотечная симфония - [2]
Интуитивно я понимаю, что существует некое таинство рождения библиотекаря внутри человеческой личности. Мне это всегда представлялось нормальным и естественным: специалист прежде всего обязан чувствовать себя личностью, а затем уже профессионалом. Следовательно, библиотекарь не подчиняет в себе человека, напротив, всякое библиотечное знание существует внутри личности, в отвоёванном ею для себя пространстве свободного самовыражения.
Для меня как человека и специалиста главное — всегда оставаться самим собой, и это налагает печать на всё, чтобы ни делал и чтобы ни писал. Но только при одном условии: речь должна идти о предмете, «моя» связь с которым не подлежит сомнению. Тогда это «я» выполняет пассивную функцию, спокойно соизмеряя и соотнося избранную тему со мной. Хочу надеяться, что сказанное в какой-то мере объясняет, почему многие годы меня, библиотекаря, занимает проблема, которую по аналогии с «высоким искусством» я склонен называть «высоким профессионализмом».
Библиотечная профессия в России XX века, к великому сожалению, принадлежала к той разновидности профессиональной деятельности, которая не успела сказать своего слова до 1917 г. и которую непосредственно после 1917 г. почти никто уже не умел слушать; деятельности, задавленной сперва войной, революцией, потом идеологией. Она, собственно, оказалась разновидностью умственного труда без преемственности, без поколения. Почему так получилось? Думаю, что многие, и я в том числе, верили, что советское время пришло надолго. Человек мог быть счастлив или несчастен, но в глубине души он понимал необратимость того, что произошло. В такой атмосфере одни играли роль интеллектуалов, другие — интеллигентов, а третьи решили оставаться дилетантами. В поисках своего места в жизни часть из них пришла в библиотеки и занималась библиотечной работой. И всё-таки это были не худшие времена для нашей профессии.
Основное отличие современных библиотекарей и библиографов от их предшественников начала XX века видится мне в том, что сегодня использование документальной информации в библиотеке носит функциональный характер. Любая книга или периодическое издание воспринимается нами как часть некоего общего процесса: формирования фонда, библиографирования, поиска, обслуживания. Поэтому библиотечно-библиографическая деятельность перестала быть описанием только конкретного текста, рассматриваемого изолированно, вне функциональной связи с другими текстами. Она усложняется и становится искусством описания, носящим системный характер. И если мы с этим согласны, то очевидно, что такое искусство формируется на основе не только профессионального, но и собственного жизненного опыта библиотечного работника…
Был и биографический импульс к написанию настоящей книги. Пожар в феврале 1988 г. в Библиотеке Академии наук СССР (БАН), восстановительные работы, возбуждение уголовного дела по ложному обвинению в продаже библиотечных книг за границу — всё происшедшее казалось нереальным, выбивало почву из-под ног, оставило глубокий след во мне, не давало покоя, мешало жить, возникла очевидная потребность освободиться от того, что накопилось, переработать и выразить в документальной форме. Так в 1996 г. появился «Библиотечный синдром»[4]. Дальше — больше. Публикация книги и рецензии на неё послужили толчком к осмыслению отечественной библиотечной истории, а затем и желанию разобраться, почему же так сложилась судьба моей многострадальной библиотеки[5]?
Мысль о личной ответственности за всё, что происходит в библиотечном мире, мысль о своей причастности возникла, видимо, задолго до моей работы в БАН. Именно теперь, отдаляясь всё больше и больше от библиотеки в классическом её представлении, мы начинаем понимать, чем она для нас была и чего мы лишимся. Судьба библиотеки всё отчётливей ставит вопрос: а что будет потом? Парадокс — утрата традиционной библиотеки есть в то же самое время осознание её необходимости обществу.
Данная книга ни в коей мере не претендует на завершение библиотечной трилогии, поскольку в моих сочинениях нет сюжетного единства, нет единого состава персонажей. Рождается скорее триптих. Все три работы объединены только единством темы, рассматриваемой в разных аспектах: в социологическом, историческом и искусствоведческом. Это не попытка написать теоретический труд по библиотековедению и библиографоведению. Я убеждён, что комплексная библиотечная наука, при наличии необходимых предпосылок, вырастает из себя самой, изнутри. Её нельзя создать «кооперативными» методами, используя социологию, литературоведение, лингвистику, информатику. Другие науки её сами за нас не создадут, но она, формируясь изнутри, соприкасается с ними и крепнет.
И ещё. Книга, строго говоря, почти не содержит обобщений. В соответствии с замыслом все отобранные и описанные ситуации складываются воедино, но до какой именно степени, зависит уже скорее не от автора, а от читающего. Материал должен говорить сам за себя…
Предполагаемый читатель настоящей книги — это не только специалист, начинающий знакомиться с литературой по библиотечному делу и библиографии. Это и опытный пользователь библиотеки, в списке трудов которого не один десяток публикаций. Я бы очень хотел, чтобы с книгой познакомились не только коллеги-библиотекари, но и учёные в области общественных наук, изучающие документы в традиционной форме, а также специалисты естественнонаучного профиля, активно использующие в повседневной деятельности современные информационные технологии. Не исключаю, что проблемы, волнующие меня, заставят моих читателей задуматься, поразмышлять о библиотеке завтрашнего дня и шире — о путях развития научных коммуникаций.
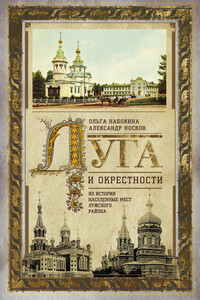
Великая миссия православной церкви – усиливать идею державности в политическом сознании народа, способствовать целям его единения. Храмы – воплощение вековых традиций. Многие из них представляют собой уникальные памятники архитектуры и искусства.Необходимость издания вызвана возросшим интересом к истории края. Памятуя о том, что церкви и часовни являются объектами, неразрывно связанными с историей конкретных населенных мест, авторы, сохраняя тему храмового зодчества как основную, путеводную, включили в книгу дополнительную информацию по широкому спектру краеведческих вопросов.Храмы приводятся по местам их нахождения, взятым в алфавитном порядке.

"Ясным осенним днем двое отдыхавших на лесной поляне увидели человека. Он нес чемодан и сумку. Когда вышел из леса и зашагал в сторону села Кресты, был уже налегке. Двое пошли искать спрятанный клад. Под одним из деревьев заметили кусок полиэтиленовой пленки. Разгребли прошлогодние пожелтевшие листья и рыхлую землю и обнаружили… книги. Много книг.".
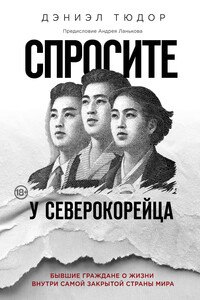
Дэниэл Тюдор работал в Корее корреспондентом и прожил в Сеуле несколько лет. В этой книге он описывает настоящую жизнь северокорейцев и приоткрывает завесу над одной из самых таинственных стран мира. Прочитав эту книгу, вы удивитесь тому, какими разными могут быть человеческие ценности.
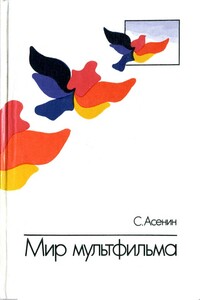
Богато и многообразно кукольное и рисованное кино социалистических стран, занимающее ведущее место в мировой мультипликации. В книге рассматриваются эстетические проблемы мультипликации, её специфика, прослеживаются пути развития национальных школ этого вида искусства.
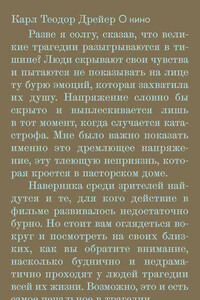
Датский кинорежиссер Карл Теодор Дрейер снял 14 полнометражных фильмов, пережил переход от немого кинематографа к звуковому и от черно-белого – к цветному, между съемками своего великого кино подрабатывал газетной критикой и заказными короткометражками и десятилетиями вынашивал замысел фильма о жизни Христа. В сборник «О кино» вошли интервью с Дрейером и его главные критические и теоретические статьи.

Новая книга политолога с мировым именем, к мнению которого прислушивается руководство основных государств, президента Center on Global Interests в Вашингтоне Николая Злобина – это попытка впервые разобраться в образе мыслей и основных ценностях, разделяемых большинством жителей США, понять, как и кем формируется американский характер, каковы главные комплексы и фобии, присущие американцам, во что они верят и во что не верят, как смотрят на себя, свою страну и весь мир, и главное, как все это отражается в политике США.