Просто голос - [56]
Из коридора подслеповато возник слуга объявить обед, и мы тронулись вслед, на ходу сматывая свиток беседы, чтобы она не посягала на досуг. Ее результат, утомительный и окольный, остался мне неясен — ни глубина изложения, ни убежденность обещания; но Вергиний ободряюще вполз на плечо упитанной пятерней в перстнях. Триклиний гордился ремонтом, которого пока не хватило на всю квартиру: розовые панели с зелеными россыпями пальметт по углам, на полу извилистые с треугольными грудями нереиды седлали дельфинов, будто в бане.
Мы были единственные гости, если опустить Л. Норбана Бальба, коллегу Квинта по вигинтисексвирату и будущего трубача. Мгновенно переключились на греческий, видимо у них обиходный; этот род, положивший полвека на укоренение в тибрской пойме и достигший высот, которые большинству уроженцев были заказаны, не желал порывать с прежней родиной, и родство, скудея в разлуке, крепло восточным течением: дочь, цветущая напротив, вскоре вышла замуж в Ахайю и жила там счастливо от лица всех, пока с Капрей не приказали иначе. Я сидел среди греков и римлян, деликатно вплетаясь в разговор, как безногая омела в родовитые ветви из земной бездны; они были себе историей и вселенной, а я — одиноким народом, высвеченным из ночи огнями легиона, прельщенным уверенной речью. Так пробуждаешься в походе от короткого каменного сна, тщетно ощупываешь изнутри онемевшую голову, а за частоколом клубится сиплый говор врага — и никак не ответить себе, кто ты, рожденный общей сыростью, чтобы насухо исчезнуть? Даже не усипет или косматый убий, истребленный накануне, — так просыпается сам камень и бессловесно гаснет. Эти приступы отсутствия были мне, наверное, заменой ностальгии в первый квиринальский год, не хватало Ахайи постелить в прошлое, чтобы блюсти верность. Странная слабость в субъекте, способном тягаться отцовской генеалогией с образцами теперешней рукотворной знати.
Другая Помпея… Я взглянул на тебя впервые глазами незнакомого Бальба, удобно отпраздновал труса, зовущего в атаку из-за чьего-то плеча, чтобы в миг негаданной победы ловко переступить через отважный труп. Я проследовал осью взора, зачарованно огибавшего наши говорливые головы с клубнями еды в зазубренных амбразурах. Надо сказать, меня мало тогда удивило, что женщины, вопреки афинской атмосфере, сидели с нами на равных — ведь не с руки римскому сенатору затевать в столице гюнекей. Позже я понял, что в наезды ахайских родичей полы по негласному уговору все же разделялись. У нас в Испании, кроме Эмпорий, натуральных греков не водилось вовсе, это было скорее прозвище, чем народ, и без тени лести.
Словно ниоткуда не входила, словно так и была всегда, ты соткалась из розовых стен и воздушных движений, непостижимо ожила и зажглась меж тусклых, ибо звезде не позор гореть из болотных язв, пока висит твердь, откуда ты родом. Изгибая глаза, чтобы казалось, будто уставился простак Бальб, отводя подозрение, я начертал забытым сердцем матовый овал с лазурным заревом зрачков под точеными черными завитками, словно светало на штормовом берегу, куда ступил вопреки всей надежде. Если уклониться в сторону истины, рот, наверное, был чуть шире совершенства — но где же и уместиться стольким поцелуям? И я, этот Бальб, наперед припадал бестелесными губами к чудной ключице под вышивкой туники, мелькнувшей из-под строгой столы. Выбитый бивень Силия уже не жалил и был даже нежен как повод; я потерял голову, и больше она мне в пути не попадалась.
Теперь, когда ты сошла в беспробудные сумерки и ждешь перевоза на скрипучих илистых мостках, я верну тебе то лучшее, что еще должен, — может статься, хватит на последний статир, по недостатку которого ты все время теряешь очередь к барке; иначе зачем высечено из мрака лицо и слоновой кости кисть чертит на чистой тарелке (ты никогда не ела на людях) маленький круг плена? Ты отпущена и прощена, возврати время дышать дальше, наши птицы не выплескали всей синевы, не пропели первой стражи водяные часы Океана. Слишком дорого обошлась, но всегда звенела сдача; одному было мало, а хватало с лихвой на всех. Невозвратен лязг твоих уключин, черный воздух вязнет в зеркале забвения, даже тени тел не сойдутся в Аиде — ибо я-то не умру никогда, так и буду, закатившись на западе, восходить на востоке. Разве заколоть черных овец, как другой зачарованный в песне, — только болтуна Тиресия оттесни от моего рва крови.
Все еще почитаемый за мальчика, я был единственным сидящим (юная Макрина почти тотчас ушла), и эта исключительность, по сути досадная, обернулась к выгоде — тем легче, что злополучная тема за столом угасла, а остальной разговор протекал внизу, словно в стеклянном пузыре пруда, когда войдешь по пояс и замрешь, а рыбы и другие жители видят в торсе лишь часть пейзажа. Я стал негласным соглядатаем, зрителем заднего ряда, и был волен в личине Бальба пользоваться незаметными удачами, а конфузы целиком оставлять ему. Да я и не мог, взирая на возраст, выступать от собственного имени, потому что был пока представлен на сцене ребенком, тщетно торопящимся вырасти. Когда наш персонаж, угадав желание, сунул миску с салатом, чтобы не успела прислуга, и коснулся на лету бережного запястья, меня пронзило совместной электрической искрой, но ты не заметила разницы.
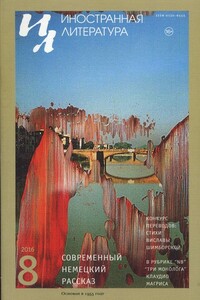
И заканчивается августовский номер рубрикой «В устье Гудзона с Алексеем Цветковым». Первое эссе об электронных СМИ и электронных книгах, теснящих чтение с бумаги; остальные три — об американском эмигрантском житье-бытье сквозь призму авторского сорокалетнего опыта эмиграции.
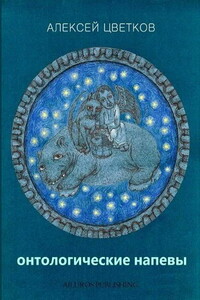
Поэтический сборник Алексея Цветкова «Онтологические мотивы» содержит около 160 стихотворений, написанных в период с 2010 по 2011 год. Почти все они появлялись на страничке aptsvet Живого Журнала.

Новая книга Алексея Цветкова — продолжение длительной работы автора с «проклятыми вопросами». Собственно, о цветковских книгах последних лет трудно сказать отдельные слова: книга здесь лишена собственной концепции, она только собирает вместе написанные за определенный период тексты. Важно то, чем эти тексты замечательны.
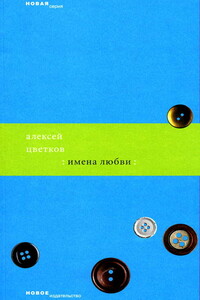
Алексей Цветков родился в 1947 году на Украине. Учился на истфаке и журфаке Московского университета. С 1975 года жил в США, защитил диссертацию по филологии в Мичиганском университете. В настоящее время живет в Праге. Автор книг «Сборник пьес для жизни соло» (1978), «Состояние сна» (1981), «Эдем» (1985), «Стихотворения» (1996), «Дивно молвить» (2001), «Просто голос» (2002), «Шекспир отдыхает» (2006), «Атлантический дневник» (2007). В книге «Имена любви» собраны стихи 2006 года.

Вашему вниманию предлагается сборник стихов Алексея Цветкова «Ровный ветер», в котором собраны стихи 2007 года.

Владимир Войнович начал свою литературную деятельность как поэт. В содружестве с разными композиторами он написал много песен. Среди них — широко известные «Комсомольцы двадцатого года» и «Я верю, друзья…», ставшая гимном советских космонавтов. В 1961 году писатель опубликовал первую повесть — «Мы здесь живем». Затем вышли повести «Хочу быть честным» и «Два товарища». Пьесы, написанные по этим повестям, поставлены многими театрами страны. «Степень доверия» — первая историческая повесть Войновича.

«Преследовать безостановочно одну и ту же цель – в этом тайна успеха. А что такое успех? Мне кажется, он не в аплодисментах толпы, а скорее в том удовлетворении, которое получаешь от приближения к совершенству. Когда-то я думала, что успех – это счастье. Я ошибалась. Счастье – мотылек, который чарует на миг и улетает». Невероятная история величайшей балерины Анны Павловой в новом романе от автора бестселлеров «Княгиня Ольга» и «Последняя любовь Екатерины Великой»! С тех самых пор, как маленькая Анна затаив дыхание впервые смотрела «Спящую красавицу», увлечение театром стало для будущей величайшей балерины смыслом жизни, началом восхождения на вершину мировой славы.

Главные герои романа – К. Маркс и Ф. Энгельс – появляются перед читателем в напряженные дни революции 1848 – 1849 годов. Мы видим великих революционеров на всем протяжении их жизни: за письменным столом и на баррикадах, в редакционных кабинетах, в беседах с друзьями и в идейных спорах с противниками, в заботах о текущем дне и в размышлениях о будущем человечества – и всегда они остаются людьми большой души, глубокого ума, ярких, своеобразных характеров, людьми мысли, принципа, чести.Публикации автора о Марксе и Энгельсе: – отдельные рассказы в периодической печати (с 1959); – «Ничего, кроме всей жизни» (1971, 1975); – «Его назовут генералом» (1978); – «Эоловы арфы» (1982, 1983, 1986); – «Я все еще влюблен» (1987).

«Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге… Здесь и на улицах как в комнатах без форточек». Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» «… Петербург, не знаю почему, для меня всегда казался какою-то тайною. Еще с детства, почти затерянный, заброшенный в Петербург, я как-то все боялся его». Ф. М. Достоевский «Петербургские сновидения»Строительство Северной столицы началось на местах многочисленных языческих капищ и колдовских шведских местах. Именно это и послужило причиной того, что город стали считать проклятым. Плохой славой пользуется и Михайловский замок, где заговорщики убили Павла I.

Когда-то своим актерским талантом и красотой Вивьен покорила Голливуд. В лице очаровательного Джио Моретти она обрела любовь, после чего пара переехала в старинное родовое поместье. Сказка, о которой мечтает каждая женщина, стала явью. Но те дни канули в прошлое, блеск славы потускнел, а пламя любви угасло… Страшное событие, произошедшее в замке, разрушило счастье Вивьен. Теперь она живет в одиночестве в старинном особняке Барбароссы, храня его секреты. Но в жизни героини появляется молодая горничная Люси.

Генезис «интеллигентской» русофобии Б. Садовской попытался раскрыть в обращенной к эпохе императора Николая I повести «Кровавая звезда», масштабной по содержанию и поставленным вопросам. Повесть эту можно воспринимать в качестве своеобразного пролога к «Шестому часу»; впрочем, она, может быть, и написана как раз с этой целью. Кровавая звезда здесь — «темно-красный пятиугольник» (который после 1917 года большевики сделают своей государственной эмблемой), символ масонских кругов, по сути своей — такова концепция автора — антирусских, антиправославных, антимонархических. В «Кровавой звезде» рассказывается, как идеологам русофобии (иностранцам! — такой акцент важен для автора) удалось вовлечь в свои сети цесаревича Александра, будущего императора-освободителя Александра II.
