Просто голос - [41]
Футах в двухстах от фора, куда мы не добрались по причине давки, выбрав окольный крюк к Фламинию, а Салии так и остались летучими черными червяками на горизонте, мускулистый прибой выплеснул нас на камни торговой галереи, и пока Реститут, при вялом содействии свитской бестолочи, пробовал возобновить плавание, я озирал из-под полога неведомый берег. Лавки, ввиду неурочного дня, были сплошь забраны расписными жалюзи, но в одну дверь была открыта, и проникший с воздухом солнечный побег выдвигал обитателей из темного объема, как фреску без прописи фона. Спиной ко мне, в двойном обрамлении двери и арки с колоннами, стояла женщина с неизвестным лицом, а перед ней на стойке сидела девочка в желтой тунике, с такой же желтой звездочкой астры в аккуратно убранных смоляных кудрях. Ее черты, на мой кельтиберский вкус, были чуть переперчены Востоком: резкие дуги бровей, почти сомкнутые на переносице, ночные зрачки без радужной вышивки, осторожная тень над губами. Она была хороша, но не как иные из нас, а будто что-то рассказанное или спетое, одна из детских дев в награду за ратные подвиги. Женщина бережно трогала плечо дочери, поправляла одежду или снимала безвредную соринку и что-то часто говорила; неразборчивый голос иногда вздрагивал, словно это был смех, словно плач, или просто она говорила на чужом языке, как раньше другая — со мной. Девочка болтала ногами, облизывала стиснутую в кулаке коврижку и держалась как подобает ребенку, но торжественный не по росту взгляд светился тайной, вестью забытых за морем уз, которым подхваченный человеческим ветром уже не причастен. Я молча простился, отплыл в лоскутную толпу и стал торопливо и жадно жить, прозревая, что мы рождены на время и что секрет у сборища общий, не отмахнуться: нас больше никогда не будет.
Пристальное острие астры, осенняя синица в окне, детство Клеменса на мелкие деньги медника — жизнь сопрягает осколки без продолжения, чтобы уверенней себе казаться, эфесский пожар из вечерней россыпи светляков. Но нигде не горит стремглав, а только длинно тлеет; нет света, кроме одной памяти, и надо вспоминать не иначе, чем если бы повествуемое несомненно существовало.
За полдневным перевалом воздух не по сезону вскипел, а полога не предусмотрели — он, видимо, давно пылился плотной скаткой на складе. Вергиний выудил из подола шелковый платок и пустился утирать шею, украдкой загребая и под мокрую ермолку парика. В сенаторских рядах кругом сидела ровня, а кое-кто и с заметным перевесом, потому что в курии мой родич не первенствовал, и ему приходилось вовсю навострять слух по ветру авторитета, мобилизуя меня в посредники. «За Паллом следи, он в чудной форме нынче», — обернулся снизу сухощавый в бисерной лысине и ткнул пальцем в долженствующие ворота. «Кого?» — усомнился Вергиний. «За Паллом!» — сказал я, артикулируя до спазма и повторил указующий жест. «Неужели?» — вежливо изумился дядя осведомленности собеседника, но тот, не дождавшись эффекта, уже упустил нить разговора и поправлял под собой одежду, облепившую спелые ягодицы.
Вергиний крякнул и тайком развел руками, словно сетуя на тщетно оказанное внимание. Реститут перегнулся через массивного шурина ошуюю и снял с хозяйского носа мутную каплю — жара продолжала свою работу, — а я линовал глазами гулкую впадину, полную толпы, которой хватило бы населить три Тарракона. В дальнем витке это были только точки, желтые, лиловые и зеленые пузырьки разума, иные состояли в родстве и разных связях, хмурились, острили, оказывали покровительство или прибегали к нему. Вся прорва жизни теснилась в уголке глаза, и веко, обрушившись, могло прищемить сотни. Может быть, там, среди мелко кишащих, уже заводились друзья и враги — если взгромоздить ипподром на торец, я был им птицей. Ближние интриговали меньше, потому что походили на прежних, — им я вменял в вину невнятность говора и отсутствие интереса к приезжему, словно скамья подо мной пустовала. Проходившая сзади женщина оступилась и прижалась горячей голенью; она не отошла бы так невнимательно, если бы понимала всю доблесть и глубину духа, но и ей самой не потрудились придумать имени, и приходится помнить ее всегда без имени и даже торса. Еще пожалеет, прослышав о неминуемых подвигах. Внизу служители окатывали из ведер ржавую от зноя дорожку, но даже вода выбивала клубы пыли. В проходе сундучок сосисочника уже распространял аппетитное облако.
На мгновение непрерывный вопль, издаваемый этим разверстым зевом земли, взволнованно запнулся, а затем покатился вновь волнами вышколенного ликования. Все сорвались с мест и устремили взоры прямо поверх меня. Вергиний, правда пособляемый под локоть шурином Сульпикианом, вскочил на зависть резво, будто проглотил пружину, сделал мне бесподобное лицо, воздев былые брови, и все мы преданно вперились вверх. Там, в закрытой ложе, убранной пурпурной и белой с золотом тканью, стоял хилый старичок в громоздком зимнем плаще и нахлобученной на уши шляпе (полагался венок, но здоровье роднее). Его мелкие черты ускользали от взгляда даже с нашей короткой дистанции, лишь задранный острый подбородок выдавал отсутствие зубов. Старичок рассеянно пожевал, что-то сообщил соседней немолодой даме в осколках холодной красоты — неуместно наклонившись, хотя она была на полголовы выше, — и приветственно извлек из складок сухую лапку. Постояв так пару мгновений, он уронил через плечо неслышное слово, и от резкой тени задника отделился третий, рослый и простоволосый, хотя волос оставалось мало, дорожа неохотно дарованной новой милостью, терпеливый соучастник власти. Я стоял в тридцати шагах от центра вселенной, на гребне многотысячного крика, я тоже, наверное, кричал, но внутри не было ни звука. Мне было беспрекословно задано, в ушах звенел приказ, но я был только частью грозного механизма, предназначенной к повиновению и неспособной к произвольному поступку, как не раздробить крепостной стены вислому тросу тарана. Покорствуя запечатленному авторитету, я содрогался от стиснутого в сердце двойного бунта, от сладости единоличной славы, так просто вообразимой с тридцати шагов, даже вертикальных. Отец — кто мне теперь отец! Разве я не один навсегда в надсадно ликующей толпе неизвестных? Старичок поперхнулся, раскашлялся и жалобно присел у перил. Угодливая тень протянула пухлый платок, и немощного тщательно укутали, спеленали. Супруга опустилась рядом на скамью, Тиберий резким жестом дал отбой благоговению. Провыла труба, нарядный прайтор уронил тряпку; дорожка дробно застучала и легла под истекающие солнцем спицы. Меня тоже принесло не с Каспия, этот род римского досуга не был мне в новинку, но убранство колесниц и удалые позы наездников исступляли, поднимали в верхний регистр рева, который не преминул взвиться и больше не молк до финиша. Конская сбруя, вымоченная в радуге, играла россыпью стекляшек и блях; гирлянды георгин, напоровшись на острый воздух, увядали под копытами. Выскобленные до блеска лошади мутнели от первого пота — одной, словно воину, эти бега сулили роковую кровопролитную славу.
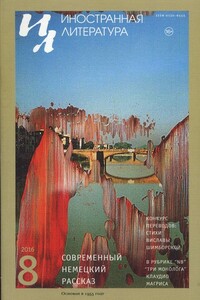
И заканчивается августовский номер рубрикой «В устье Гудзона с Алексеем Цветковым». Первое эссе об электронных СМИ и электронных книгах, теснящих чтение с бумаги; остальные три — об американском эмигрантском житье-бытье сквозь призму авторского сорокалетнего опыта эмиграции.

Вашему вниманию предлагается сборник стихов Алексея Цветкова «Ровный ветер», в котором собраны стихи 2007 года.
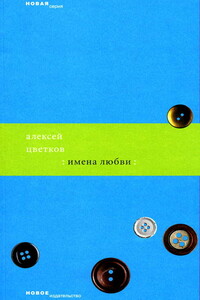
Алексей Цветков родился в 1947 году на Украине. Учился на истфаке и журфаке Московского университета. С 1975 года жил в США, защитил диссертацию по филологии в Мичиганском университете. В настоящее время живет в Праге. Автор книг «Сборник пьес для жизни соло» (1978), «Состояние сна» (1981), «Эдем» (1985), «Стихотворения» (1996), «Дивно молвить» (2001), «Просто голос» (2002), «Шекспир отдыхает» (2006), «Атлантический дневник» (2007). В книге «Имена любви» собраны стихи 2006 года.
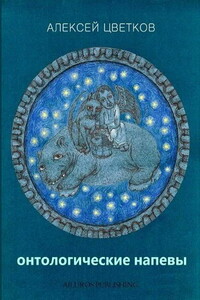
Поэтический сборник Алексея Цветкова «Онтологические мотивы» содержит около 160 стихотворений, написанных в период с 2010 по 2011 год. Почти все они появлялись на страничке aptsvet Живого Журнала.

Новая книга Алексея Цветкова — продолжение длительной работы автора с «проклятыми вопросами». Собственно, о цветковских книгах последних лет трудно сказать отдельные слова: книга здесь лишена собственной концепции, она только собирает вместе написанные за определенный период тексты. Важно то, чем эти тексты замечательны.
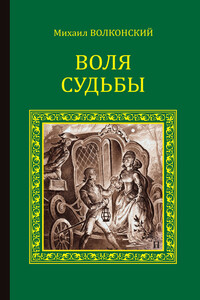
1758 год, в разгаре Семилетняя война. Россия выдвинула свои войска против прусского короля Фридриха II.Трагические обстоятельства вынуждают Артемия, приемного сына князя Проскурова, поступить на военную службу в пехотный полк. Солдаты считают молодого сержанта отчаянным храбрецом и вовсе не подозревают, что сыном князя движет одна мечта – погибнуть на поле брани.Таинственный граф Сен-Жермен, легко курсирующий от двора ко двору по всей Европе и входящий в круг близких людей принцессы Ангальт-Цербстской, берет Артемия под свое покровительство.

Огромное войско под предводительством великого князя Литовского вторгается в Московскую землю. «Мор, глад, чума, война!» – гудит набат. Волею судеб воины и родичи, Пересвет и Ослябя оказываются во враждующих армиях.Дмитрий Донской и Сергий Радонежский, хитроумный Ольгерд и темник Мамай – герои романа, описывающего яркий по накалу страстей и напряженности духовной жизни период русской истории.
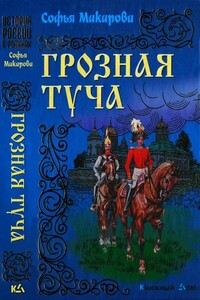
Софья Макарова (1834–1887) — русская писательница и педагог, автор нескольких исторических повестей и около тридцати сборников рассказов для детей. Ее роман «Грозная туча» (1886) последний раз был издан в Санкт-Петербурге в 1912 году (7-е издание) к 100-летию Бородинской битвы.Роман посвящен судьбоносным событиям и тяжелым испытаниям, выпавшим на долю России в 1812 году, когда грозной тучей нависла над Отечеством армия Наполеона. Оригинально задуманная и изящно воплощенная автором в образы система героев позволяет читателю взглянуть на ту далекую войну с двух сторон — французской и русской.
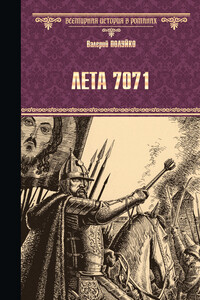
«Пусть ведает Русь правду мою и грех мой… Пусть осудит – и пусть простит! Отныне, собрав все силы, до последнего издыхания буду крепко и грозно держать я царство в своей руке!» Так поклялся государь Московский Иван Васильевич в «год 7071-й от Сотворения мира».В романе Валерия Полуйко с большой достоверностью и силой отображены важные события русской истории рубежа 1562/63 года – участие в Ливонской войне, борьба за выход к Балтийскому морю и превращение Великого княжества Московского в мощную европейскую державу.

После романа «Кочубей» Аркадий Первенцев под влиянием творческого опыта Михаила Шолохова обратился к масштабным событиям Гражданской войны на Кубани. В предвоенные годы он работал над большим романом «Над Кубанью», в трех книгах.Роман «Над Кубанью» посвящён теме становления Советской власти на юге России, на Кубани и Дону. В нем отражена борьба малоимущих казаков и трудящейся бедноты против врагов революции, белогвардейщины и интервенции.Автор прослеживает судьбы многих людей, судьбы противоречивые, сложные, драматические.
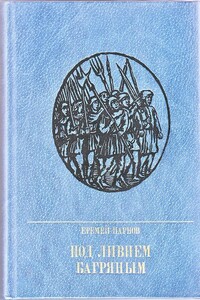
Таинственный и поворотный четырнадцатый век…Между Англией и Францией завязывается династическая война, которой предстоит стать самой долгой в истории — столетней. Народные восстания — Жакерия и движение «чомпи» — потрясают основы феодального уклада. Ширящееся антипапское движение подтачивает вековые устои католицизма. Таков исторический фон книги Еремея Парнова «Под ливнем багряным», в центре которой образ Уота Тайлера, вождя английского народа, восставшего против феодального миропорядка. «Когда Адам копал землю, а Ева пряла, кто был дворянином?» — паролем свободы звучит лозунг повстанцев.Имя Е.
