Просто голос - [39]
Этот двоюродный мальчик, рожденный так ненадолго, мой маленький загробный брат, подобрал деревянную лопатку и принялся поправлять ноздреватые от утренней сырости стены постройки — он явно возвел свое зубчатое чудо не без помощи, и теперь неумелым ремонтом рисковал все обрушить. Я наскоро удостоверился в отсутствии свидетелей и стал пособлять — я и сам был не прочь построить такое в подходящем возрасте, но не успел, а наверставшего мальчика звали Марк. Перикл или кто-то одинаково мудрый говорил, что земля — усыпальница великих, и надо воздавать достоинству, а земля просто кладбище всех, где немногий живущий истово возлагает венок; он тоже предшественник и вмещает непересказуемое. Солнце переползало улиткой с кирпича на кирпич, стеля слизистый след. Шершавая тень пальмы отмеряла на циферблате двора истечение вечности. «Титий! Титий!» — верещала вверху воображаемая женщина, словно исполинская синица.
Мы не достигли, однако, особой фортификации, потому что вышла горничная и, деликатно выговорив маленькому господину за попытку развлечь меня натощак, отвела на кухню восполнить этот просчет гостеприимства, а затем — в жилые покои, представить хозяйке. Проходя через атрий, который накануне при свете лампы рассмотреть не вышло, я замешкался, всполошенный стенной росписью. Кроме известных образцов жанра, таких как похищение анемичного Ганимеда, львиная ловля и ложное окно в неописуемый пейзаж, здесь всю левую стену занимал довольно исключительный сюжет, писанный, судя по всему, поверх прежнего художества, потому что проступали пальметты и завитки аканта. Сюжет изображал убеленного старца в окружении нарочито второстепенных, внимающего чтению курчавого толстогубого юнца, который, держа в одной руке манускрипт, вдохновенно вонзал другую в воздух. Лицо старца, выписанное скорее старательно, чем искусно, долженствовало являть смесь восторга и зависти. Это был, как я не замедлил узнать, «Аккий, читающий Пакувию» — разницу возраста мастер, видимо, усугубил для пущего ошеломления. Дядя Вергиний знал толк в литературе и не делал из этого тайны.
Но об этом все-таки после, правда? Горничная, которая, с наступлением после, предстанет под именем Фортунаты, развела парчовый полог и подвела меня к кипарисовой инкрустированной кровати, на которой хозяйка дома предавалась долгому недугу. Наслышанный от отца, я держал выражение лица наготове, но все же, изогнувшись для поцелуя, инстинктивно завел руки за спину — наотлет, как в танце — и стал одним из аистов желтого стенного узора. Больная была молода, но это не играло роли — сухое лицо с неподвижным, отрешенным от разговора взглядом под выписанными сурьмой дугами; пергаментные пальцы, в беготне которых по одеялу теснилась вся бодрость. Воздушное вещество духоты не висело здесь равномерно, а растекалось лучами от тела; окно под бурой балкой потолка, забранное от мух потемневшей марлей, недотягивалось развеять.
В прорезь полога сунулось любопытное лицо Марка, но было тотчас выдернуто обратно, ему как бы не оказалось здесь занятия. В своем я соблюдал солидность, уступая шелестящим расспросам. Становилось неинтересно; формулировать беспощаднее я стеснялся.
Гомон и топот в атрии провозгласили возвращение Вергиния, энтузиаста утренних визитов. Больная слабо просигналила Фортунате, но дядя опередил в дверях, суетливым кубарем вспенил полумрак страдания. «Вот, дружок, — быстро обратился он к жене, инсценируя знакомство заново, — вот какого умницу мы заполучили у Лукилия. Это в кого же такой рыжий — никак в покойницу?» Он, видимо, сообразил, что сам видит меня впервые. Вергиний был толст и мал головой, отчего как бы конусоидален; его пыльный парик сбился на лоб и торчал на затылке зонтиком. В складках тоги он постоянно прятал слуховой рожок, но стеснялся прибегать к нему без крайней надобности и не допускал пауз в своем разговоре. «Ну-ка, поприветствуй тетеньку!» Делать нечего, я снова вытянул губы в свисток. Из-под затхлого запаха духов остро полыхнуло мочой.
И стало просторно и грустно в груди, словно прозвучало слово-отмычка, и жизнь обнажила прежде сокровенное и неподсудное взгляду, внезапно постижимое навылет. Над разверстым теменем реял кассетный потолок с мелкой мифологической вышивкой, тяжелые этажи в стопку, а дальше светлая высота, внятная отсюда целиком и вниз, как бы внутрь тела, распростертого на столетия, увенчанного солнечной головой; но моментальный и дарованный смерти, трубкоротый над таким же пеплом — кто был тогда этот я в выцветших веснушках осени, который сочился соплями под зорким пожарным взглядом? Как помещался в этом тленном, под тихий пунктир сердцебиения? Вся кровь и внутренность, и глупость — просто карликовый маскарад, блошиный цирк перед обмороком правды, которая произвольно наносит свидания и перехватывает время в горле. Ты — вот местоимение милее всех рухнувшему в бездну сознания — ты человек и больше, вечный город на семи сосцах волчьей земли, где пусть себе селится дядя за дядей, родич или вообще мужской колонист. Я выпрямил глаза: обведенный багровой мясной мякотью, с постели блестел несвежий суповой хрящ, гладко-желтый с глубинным голубым отливом. Дом отца, известный по устным описаниям, Вергиний без угрызений снес, потому что земля дорожала под ногами, и выстроил нынешний доходный, расположившись в нижнем этаже со всяческим комфортом. Из прежней топографии была пощажена лишь пальма — отцовская ровесница или старше, она живьем стоила больше собственной древесины, чего не скажешь о каждом из нас. Летом жили на вилле в Ланувии, а стабианская, куда парализованной стало невмоготу добираться, служила для дружеских одолжений, нужда в которых обострилась с неурочной кончиной Лоллия, автора многих милостей. Вергиний, в противоположность брату, оставался в Сенате, но, не сумев взобраться выше квайстора, желтел омелой на палатинских дубах и теперь чутко тяготел к Тиберию. Нас вытряхнуло в атрий; все во мне норовило наружу, прочь из расписных стен, от слабых уз гостеприимства, разговориться в редком городе выдумки, где собрались соучастники пролагать себе историю в недра, чтобы столетиями гордо восклицать друг другу с ростр: квириты! В дверях двора протарахтел на деревянном рысаке малыш Марк, чудное мочало хвоста взметнулось по ветру — под флаги Камилла или Фламинина. Но уже Вергиний, шаркая в мозолистых парчовых тапках, теснил в таблин обременить расспросами, оправдать родство. Впрочем, судьбу собеседника упрощала немощь слуха: осведомляясь, он немедленно кивал, будто наперед угадывал, и пускался в собственные домыслы, порой сильно отстоящие от существа возможного ответа. Рожок, как выяснилось, он щадил для более тщательных встреч, внимать мудрости осененных фавором, а обстоятельства низших и подопечных постигал без слов, даже с подобающей грустью. Из рассказанного ему запала только недавняя отцовская борода — он даже встал и прошелся из угла в угол, наглядно волнуясь. Письмо, переданное накануне Нигером, было уже распечатано и лежало тут же на столе; пробегая, Вергиний всякий раз прихлопывал его пухлой ладошкой, словно свидетельствовал подлинность понятого, хотя выведал у меня путем монолога мало. Очевидно, участь брата была ему небезразлична, хоть и не лишала сна. В годы предшествия моей жизни он, похоже, положил себе отцовскую за образец, а крушение лишило ориентира, гордость уступила место горечи, но и та миновала, как любая молодость. Теперь предстояло сквитаться, и дядя был рад всеоружию.
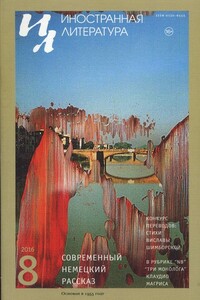
И заканчивается августовский номер рубрикой «В устье Гудзона с Алексеем Цветковым». Первое эссе об электронных СМИ и электронных книгах, теснящих чтение с бумаги; остальные три — об американском эмигрантском житье-бытье сквозь призму авторского сорокалетнего опыта эмиграции.

Вашему вниманию предлагается сборник стихов Алексея Цветкова «Ровный ветер», в котором собраны стихи 2007 года.
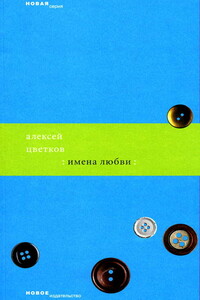
Алексей Цветков родился в 1947 году на Украине. Учился на истфаке и журфаке Московского университета. С 1975 года жил в США, защитил диссертацию по филологии в Мичиганском университете. В настоящее время живет в Праге. Автор книг «Сборник пьес для жизни соло» (1978), «Состояние сна» (1981), «Эдем» (1985), «Стихотворения» (1996), «Дивно молвить» (2001), «Просто голос» (2002), «Шекспир отдыхает» (2006), «Атлантический дневник» (2007). В книге «Имена любви» собраны стихи 2006 года.
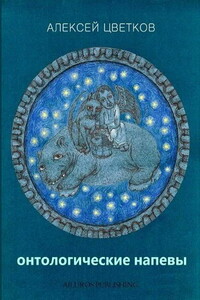
Поэтический сборник Алексея Цветкова «Онтологические мотивы» содержит около 160 стихотворений, написанных в период с 2010 по 2011 год. Почти все они появлялись на страничке aptsvet Живого Журнала.

Новая книга Алексея Цветкова — продолжение длительной работы автора с «проклятыми вопросами». Собственно, о цветковских книгах последних лет трудно сказать отдельные слова: книга здесь лишена собственной концепции, она только собирает вместе написанные за определенный период тексты. Важно то, чем эти тексты замечательны.

Огромное войско под предводительством великого князя Литовского вторгается в Московскую землю. «Мор, глад, чума, война!» – гудит набат. Волею судеб воины и родичи, Пересвет и Ослябя оказываются во враждующих армиях.Дмитрий Донской и Сергий Радонежский, хитроумный Ольгерд и темник Мамай – герои романа, описывающего яркий по накалу страстей и напряженности духовной жизни период русской истории.
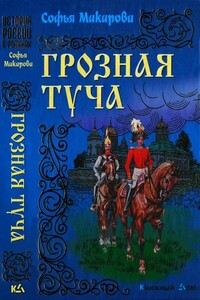
Софья Макарова (1834–1887) — русская писательница и педагог, автор нескольких исторических повестей и около тридцати сборников рассказов для детей. Ее роман «Грозная туча» (1886) последний раз был издан в Санкт-Петербурге в 1912 году (7-е издание) к 100-летию Бородинской битвы.Роман посвящен судьбоносным событиям и тяжелым испытаниям, выпавшим на долю России в 1812 году, когда грозной тучей нависла над Отечеством армия Наполеона. Оригинально задуманная и изящно воплощенная автором в образы система героев позволяет читателю взглянуть на ту далекую войну с двух сторон — французской и русской.
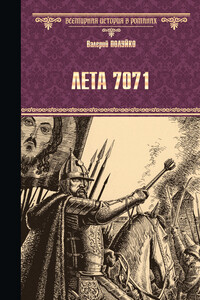
«Пусть ведает Русь правду мою и грех мой… Пусть осудит – и пусть простит! Отныне, собрав все силы, до последнего издыхания буду крепко и грозно держать я царство в своей руке!» Так поклялся государь Московский Иван Васильевич в «год 7071-й от Сотворения мира».В романе Валерия Полуйко с большой достоверностью и силой отображены важные события русской истории рубежа 1562/63 года – участие в Ливонской войне, борьба за выход к Балтийскому морю и превращение Великого княжества Московского в мощную европейскую державу.

После романа «Кочубей» Аркадий Первенцев под влиянием творческого опыта Михаила Шолохова обратился к масштабным событиям Гражданской войны на Кубани. В предвоенные годы он работал над большим романом «Над Кубанью», в трех книгах.Роман «Над Кубанью» посвящён теме становления Советской власти на юге России, на Кубани и Дону. В нем отражена борьба малоимущих казаков и трудящейся бедноты против врагов революции, белогвардейщины и интервенции.Автор прослеживает судьбы многих людей, судьбы противоречивые, сложные, драматические.
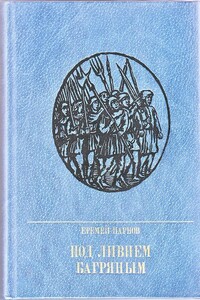
Таинственный и поворотный четырнадцатый век…Между Англией и Францией завязывается династическая война, которой предстоит стать самой долгой в истории — столетней. Народные восстания — Жакерия и движение «чомпи» — потрясают основы феодального уклада. Ширящееся антипапское движение подтачивает вековые устои католицизма. Таков исторический фон книги Еремея Парнова «Под ливнем багряным», в центре которой образ Уота Тайлера, вождя английского народа, восставшего против феодального миропорядка. «Когда Адам копал землю, а Ева пряла, кто был дворянином?» — паролем свободы звучит лозунг повстанцев.Имя Е.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
