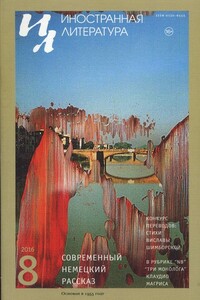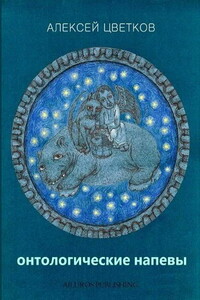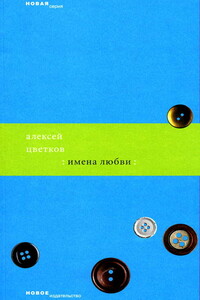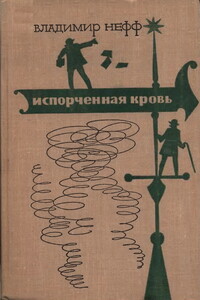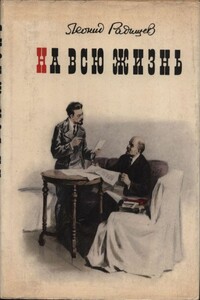Иногда подумаешь — смешно представить, вдруг просвистят столетия, и ученый германец, оксюморон в портках, примется многотомно писать историю империи, исчезнувшей, то есть как бы никогда не бывшей, приснившейся, долетевшей до него с ветром времени в нескольких, скажем, уцелевших обрывках Ливия, в назидание своим полуночным собратьям, не ведая, что и ему с ними куется та же судьба; или вовсе какой-нибудь сущий скиф во вшах, на корточках в тени кибитки, наврет камышовым пером о подвигах едва ли не такого же, как я, трибуна-сверхсрочника неведомой и давней земли, как и мы читаем порой сентиментальные байки из быта египтян и египтянок, не обинуясь, что сочинитель бывал в этом Египте не чаще нашего, лишь бы интрига покруче, лишь бы египтянку эту угораздило подальше, чтоб ему потом, олуху, искать ее не сыскать. Но пусть хоть и такой, лишь бы выжить и остаться — в нелепом не по мерке плаще досужей выдумки, на небывалой дороге, с чужим щетинистым лицом, в уже неузнаваемой жизни.
Кажется, нет гаже изжоги, чем от их тепленького литературного пойла. Кто втемяшит ослепшим, что самая скудная судьба подагрика в заштатном Херсонесе неисповедимее и ярче любых чернильных див, что все их милетские мерзости, запятнавшие воинство Красса в глазах парфян, наивнее грошовых ласк александрийской бляди? Жизнь блекнет на плечах глупца от ежедневной носки, он норовит схорониться в убогом лесу вымысла, частоколе увечных каракуль, которыми ему подобный позорит божественный промысел. Но где-нибудь ночью, в клоповнике курдского странноприимца, объятый скукой и бедой, вдруг задохнешься от беспомощного восхищения, что наконец существуешь. Шорох буковой листвы над растаявшей крышей, голод многодетной лисы в норе, ожидание встречи с кем-то близящимся, с кем разделить счастье дыхания и всю невероятную и единственную пору времени.
Я вернулся на родину, где никогда прежде не был, я узнан и любим звездой, которую возвело над горизонтом мое рождение, — как же темно нам было в разлуке! Пусть затмевается имя кривляки, жгущего вонючее полуночное масло на потребу мертвым, — я живу навсегда в коленопреклоненных строках, изо всех сил, навстречу золотому зареву космоса.
В марте, в канун Квинкватрий, мы выдали Иолладу замуж — ее взял отцовский отпущенник, вместе с вольной и всем остальным, чем изловчился снабдить Эвтюх. В замужестве я видел ее лишь однажды, за неделю до отъезда, на играх, которые закатил пропрайтор Гению Августа, завершив летний объезд провинции. То ли я слепо задел ее плечом, то ли это она меня окликнула, не могла не окликнуть, чтобы в последний раз содрогнуться над обоюдной и уже гаснущей в чертополохе пропастью. Наверное, все-таки я, потому что она вначале глянула сквозь и даже миновала в толпе, но тут же обернулась и осветила слабой улыбкой, в которую я вчитываюсь теперь издалека в попытке различить письмена на песке, вылизанные первой волной. Она никогда не взыскала долга, никогда не предъявила к оплате беспрекословную жертву детской любви и теперь кротко сокрушается об этом в чужой памяти, навсегда оказавшей ей гостеприимство. Наяву же, то есть с оборотной стороны век, она о чем-то спросила, может быть о здоровье отца и всех наших, и я заметил, как отяжелело нежное лицо и припухли запястья. Кажется, она уже была беременна. Рядом, растопырив объятия, образовался муж — его, впрочем, я встречал не раз среди наших немногих утренних гостей, мы даже как бы приятельствовали: я на правах отцовского сына, он же — благодаря мечу и шлему, предметам тогдашней наивной зависти; он служил в IV Македонском, но потом, похоже, стал искать где лучше и нашел. Во всяком случае, в год мятежа, когда и наша луна над Реном набухала кровью, докатился слух из Паннонии о кентурионе Лукилии по прозвищу Подай-Другую, за рвение разорванном солдатами на куски. А может, и совпадение, какими злорадно изобилует судьба, но все же подкупает невразумительной логикой: как бы последнее письмо Иоллады, подписанное такой же кровью.
Как непослушно ложится жизнь на подостланную дохлую бумагу, как развеществляется под пером и тем не менее каменеет! Где раньше размывало любые берега, теперь тщательно пролегает узкое русло в напускных нарочитых излучинах, которых не замечал, протекая, и которые, наверное, навязала костяная память соглядатая, без обиняков и недомолвок. Первая карнавальная поблажка; нетерпеливый побег в скорое юношество; крепкий конный контур деда среди астурских холмов; журавлиный отлет в плоскую синеву с жерновом наследной ненависти на шее, — это было, пока последний очевидец не смежил навсегда глаз, но не сходятся очертания черепков в рассыпанной детской угадайке, наше бледное больше не дышит, не шевелится наше сплюснутое. Даже если сощуриться, чтобы не замечать зазоров: отчего этот щуплый в лиловом на площади именно ты, если площадь застроена, прежнее платье истлело, и уже на ином, раздавшемся лице восходят тусклые глаза старости? Как зябко сомнению и тесно в груди от тех, кто до тебя не дожил! И как печально в конечном счете, что самых незабываемых уроков нам никто не задавал.