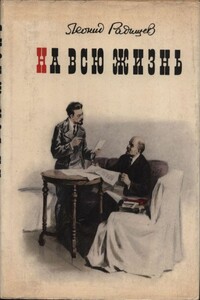Просто голос - [24]
Гряда тамариска пригибается под тяжким гребнем рассветной свежести. С севера налетает прерывистый, разрозненный бризом лай. Я оглядываюсь на отца, но он, видимо еще во власти фантома, трогает лезвием землю, будто чертит тайные знаки заговора. Вдали заросли возмущены неправильной, идущей против ветра рябью — это наши подняли оленя, и он, едва показавшись, шарахается на коряжистый склон, но я успеваю пустить дротик и с отвращением слышу вязкий звук удара, словно короткий стон за стеной. С противоположного склона с мучительным треском и воплем свергается неуклюжая тяжесть, и я на миг захлебываюсь ужасом, но ничего особенного — просто покатился в низину не по фигуре замахнувшийся и оступившийся Постумий. Олень упал на колени, и подоспевший отец добивает его ножом. От неожиданности, суматохи и льстивых похвал голова моя идет кругом. День первой крови.
В иную пору подарков и триумфа хватило бы с лихвой, чтобы недосягаемо меня вознести. С позиции собственного отцовства я мог бы теперь даже упрекнуть в излишней расточительности и заподозрить некую бессознательную цель — не скажу подкупа, но залога благонадежности, притом вполне уместного; притухшее пламя зла в моем сердце вновь взмыло языками, и по пути домой, осязая бедрами молодые мускулы коня, я мысленно разворачивал его и мчался в твердыни власти, донести о посягательстве и ожидать награды, прослыть спасителем устоев. Одиночество и одичание подвигли отца на его преждевременное признание, но это бремя доверия пригнуло подростка, и, чтобы упредить безумие, я, под предлогом пробы скакуна, во весь опор ринулся вперед, в убежище детства. Промозглый сад с задушенным мертвыми листьями нимфеем, рассевшиеся на темных качелях призраки игр. Здравствуй, Лукилия с приветливым писком на устах, здравствуй, брат, томимый ненавистью, в торжественных новых сандалиях — я в них уже свое оттопал. За обедом мне оказали бездну чести, вконец уязвив близнецов, которых увели еще до первых тостов. Отец, впрочем, больше молчал, но не в знак немилости — так было у нас заведено, и меня скорее задело бы небрежное поощрение из его уст. Я пробовал уловить хоть мимолетный пытливый взгляд в подтверждение недавней инициации, но тщетно. С некоторых пор он завел себе обыкновение сидеть за столом, не отступаясь и при гостях; вопреки празднику, он пренебрег гирляндами и венком, отчего Постумий и безымянный подпевала, судебный стенографист с мохнатой бородавкой на лбу, как бы третьей бровью, приведя себя в благорасположение этрусским, наперебой уговаривали отложить скорбь и поскорее вновь жениться, чтобы шире распространить старинный род и дать друзьям, в каковые они себя произвели, повод к застолью. Один лишь я начинал теперь понимать, что дело не в личных утратах и что это бдительное уныние он перенял у своего всегдашнего мраморного кумира в чисто гражданских целях. Каллист, обносивший дичью, без ухищрений зажаренной в меду, успевал ко мне вперед Иоллады и, с торжеством перехватывая ее расстроенные взгляды, нежно нашептывал, скорее льстиво дышал в ухо, и прижимался на лету всем телом. Сквозь слабое сладкое вино он мерещился обещанием нерасторжимой дружбы и торопил жить, чтобы все это счастье поместилось без остатка в короткие зимние дни, а я, томимый его прелестью и собственной предстоящей отвагой, тайком совал ему за пазуху финики и смоквы, пока их не смели вчистую со стола глазастые щупальца стенографиста. Свечи с наслезенных бронзовых насестов раздували на стенах причудливые тени беседующих, многорукие и мохнатые, словно кошмары малярийного сна, из угла надвигалось багровое око жаровни, и отец на своем одиноком стуле медленно исчезал в мир мрамора и воска. Исчез и я, уведенный бодрым Артемоном. Свалив поверх одеяла чужое и неповоротливое тело подростка, я тотчас принялся спать, я спал уже на пути к постели, но поначалу почему-то не смежая век, и еще видел, как в плену окна единственная пепельная звезда осветила все немногое, что посмела, клок воздуха, лучом бесполезной любви, пристальным светом материнства, пока ее не поглотили платановые сучья, а меня — ночь.
Утро настало солнечное и холодное, я загодя выклянчил его у отца и произвел в праздники, как и было на самом деле, хотя он проворчал, что такие отдыхи не в меру позволяют из снисхождения рабам, а свободному не пристало уклоняться от благочестия, намекая, что лучше бы я шел с ним в храм. Я ничего невероятного в таком объяснении свободы не усмотрел, но смиренно домогался поблажки ввиду близкого возобновления занятий. И теперь я встретил это прощенное утро еще непуганым детским счастьем, таким завидным отсюда, сверху, куда ему уже не взобраться, а сердце не помнит и никогда не вело дневника. В поздней юности, хотя все реже, можно быть счастливее, но уже и от себя не скрыть корысти. Я, однако, напрасно льщу своему двенадцатилетию; хрустальной наивности было, наверное, меньше, чем мерещится, и пока я, вопреки обыкновению, скреб до визга зубы над латунным тазом, усмирял маслом належанный за ночь вихор, обезьяной вертясь перед материнским зеркалом, пока я, на диво невидимке очевидцу, ваял на себе плащ почище афинского Фидия, ему, этому сокровенному соглядатаю, я виделся иным, жившим когда-то прежде, или еще предстоящим, но в некоем уже завершенном, перфектном смысле, без выбора и судьбы, подобным камню, и мое имя было для него именем камня. Да если бы он и признал протяженность моего пребывания, этим неизвестно что доказывалось, потому что момент был для него атрибутом места, и его собственное «сейчас» было неведомо где, а здесь время разваливалось на окоченевшие куски, как в историческом труде, когда автор показывает нам, в торопливо угаданной последовательности, лишь бездыханные головешки, которые он извлек из золы забытого дерева. Посторонний недоуменно ступил в мою сторону и слипся со мной, став содержимым камня. Мы переглянулись — возобновленный прототип, вихрастый в зеркале и третий в тазу, муаровый и прозрачный. На потолке развевались сетчатые блики слез, снаружи верещали щеглы. Я приготовился жить дальше, и вся задержавшая дыхание радость разом плеснула в лицо, когда, выплыв садом, который уже звенел на солнце, во дворе, где угрюмый Гаий распихивал по пыльным клеткам камешки, я увидел своего вчерашнего скакуна и Каллиста, державшего повод. Плотник Диотим, напевая скабрезную арию, полок к амбару длинную рейку и с оживлением что-то на ней отмерял. У вкопанного в землю корыта кто-то учинял ремонт жеребенку, ковыряя кривым шилом нарыв на крупе; жеребенок норовил убежать, но спутанные ноги подломились, и его продолжали лечить лежа, а он корил неласковую руку сухим стеклянным взглядом и пускал из ноздрей пузыри. Еще почему-то запомнились отворенные двери сарая с тюками льна, где, словно в рамке или в миме, двое рабов увековечили исчерпанный диалог, один, вытянув ладонь и сделав лицом «вот то-то и оно», а другой, загнув пальцы к себе, — «так-то оно так». Я потом лет пять, оставаясь наедине, как заговоренный, разыгрывал эту сцену. Мы свели коня — все-таки это был мерин — по склону оврага, вместе вскарабкались в седло и тронулись к морю. Каллист обхватил меня за пояс, и я временами косился на его недоструганные фаланги. Коня — или, скажем, лошадь — то и дело сносило в шиповник, и мы исцарапались от лодыжек до локтей.
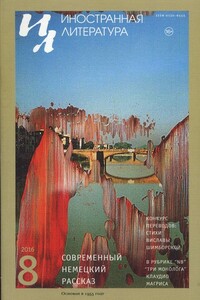
И заканчивается августовский номер рубрикой «В устье Гудзона с Алексеем Цветковым». Первое эссе об электронных СМИ и электронных книгах, теснящих чтение с бумаги; остальные три — об американском эмигрантском житье-бытье сквозь призму авторского сорокалетнего опыта эмиграции.
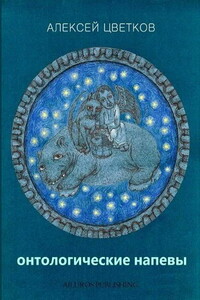
Поэтический сборник Алексея Цветкова «Онтологические мотивы» содержит около 160 стихотворений, написанных в период с 2010 по 2011 год. Почти все они появлялись на страничке aptsvet Живого Журнала.

Вашему вниманию предлагается сборник стихов Алексея Цветкова «Ровный ветер», в котором собраны стихи 2007 года.

Новая книга Алексея Цветкова — продолжение длительной работы автора с «проклятыми вопросами». Собственно, о цветковских книгах последних лет трудно сказать отдельные слова: книга здесь лишена собственной концепции, она только собирает вместе написанные за определенный период тексты. Важно то, чем эти тексты замечательны.
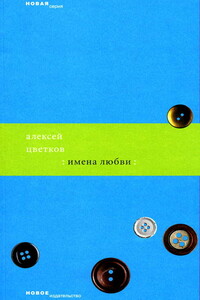
Алексей Цветков родился в 1947 году на Украине. Учился на истфаке и журфаке Московского университета. С 1975 года жил в США, защитил диссертацию по филологии в Мичиганском университете. В настоящее время живет в Праге. Автор книг «Сборник пьес для жизни соло» (1978), «Состояние сна» (1981), «Эдем» (1985), «Стихотворения» (1996), «Дивно молвить» (2001), «Просто голос» (2002), «Шекспир отдыхает» (2006), «Атлантический дневник» (2007). В книге «Имена любви» собраны стихи 2006 года.

Роман Дмитрия Конаныхина «Деды и прадеды» открывает цикл книг о «крови, поте и слезах», надеждах, тяжёлом труде и счастье простых людей. Федеральная Горьковская литературная премия в номинации «Русская жизнь» за связь поколений и развитие традиций русского эпического романа (2016 г.)
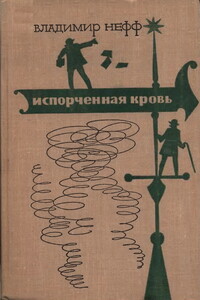
Роман «Испорченная кровь» — третья часть эпопеи Владимира Неффа об исторических судьбах чешской буржуазии. В романе, время действия которого датируется 1880–1890 годами, писатель подводит некоторые итоги пройденного его героями пути. Так, гибнет Недобыл — наиболее яркий представитель некогда могущественной чешской буржуазии. Переживает агонию и когда-то процветавшая фирма коммерсанта Борна. Кончает самоубийством старший сын этого видного «патриота» — Миша, ставший полицейским доносчиком и шпионом; в семье Борна, так же как и в семье Недобыла, ощутимо дает себя знать распад, вырождение.

Роман «Апельсин потерянного солнца» известного прозаика и профессионального журналиста Ашота Бегларяна не только о Великой Отечественной войне, в которой участвовал и, увы, пропал без вести дед автора по отцовской линии Сантур Джалалович Бегларян. Сам автор пережил три войны, развязанные в конце 20-го и начале 21-го веков против его родины — Нагорного Карабаха, борющегося за своё достойное место под солнцем. Ашот Бегларян с глубокой философичностью и тонким психологизмом размышляет над проблемами войны и мира в планетарном масштабе и, в частности, в неспокойном закавказском регионе.

Сюжетная линия романа «Гамлет XVIII века» развивается вокруг таинственной смерти князя Радовича. Сын князя Денис, повзрослев, заподозрил, что соучастниками в убийстве отца могли быть мать и ее любовник, Действие развивается во времена правления Павла I, который увидел в молодом князе честную, благородную душу, поддержал его и взял на придворную службу.Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

В 1977 году вышел в свет роман Льва Дугина «Лицей», в котором писатель воссоздал образ А. С. Пушкина в последний год его лицейской жизни. Роман «Северная столица» служит непосредственным продолжением «Лицея». Действие новой книги происходит в 1817 – 1820 годах, вплоть до южной ссылки поэта. Пушкин предстает перед нами в окружении многочисленных друзей, в круговороте общественной жизни России начала 20-х годов XIX века, в преддверии движения декабристов.