«Прости, мой неоцененный друг!» (феномен женской дружбы в эпоху просвещения) - [3]
Обе были в своем кругу «белыми воронами». Над обеими за спиной посмеивались, разглядев в руках пухлый томик Вольтера, а не затрепанный рыцарский роман. Но стоит отметить, что всего за одно поколение до наших «ученых дам», в почти неграмотном придворном обществе времен Анны Иоанновны, насмешки и отчуждение вызывала принцесса Анна Леопольдовна, «дотянувшаяся» пока только до романов.
В Екатерининское царствование заниматься серьезным чтением и литературным, в первую очередь переводческим трудом, стало не только не стыдно, но и прямо-таки обязательно для представителей образованного сословия, в чем сама императрица задавала тон. Именно тогда совершился глубокий культурный прорыв, подготовленный всем развитием русского общества на протяжении первой половины XVIII в. К концу столетия в России насчитывалось уже более 70 женщин-писателей.[13] Их труды сейчас практически неизвестны и, по совести сказать, не обладают большими художественными достоинствами, но сам факт изменения отношения к литературе в пользу серьезных занятий знаменателен. Эти «ученые дамы» не взялись бы сами за перо, если б их матери не зачитывались романами из петербургских и московских книжных лавок.
И не даром отец русского женского образования Иван Иванович Бецкой шел в своих проектах гораздо дальше создания Смольного института благородных девиц и воспитательных домов, предлагая разрешить наиболее одаренным девушкам получать университетское образование вместе с юношами. Подобный проект был, конечно, утопичен для того времени, но само его появление много говорит об изменении взгляда на женщину в обществе эпохи Просвещения. «За первое предводительство, оказанное нам, как на свет вышли, за первую помощь и сбережение, за первое пропитание, за первые наставления и за первую дружбу, которой в жизни своей пользуемся, кому одолжены? Одному женскому полу». В основу женского образования в России, было положено Бецким непреложное правило, чтоб «все девушки не только общались читать и писать, но имели бы и разум, просвещенный различными знаниями, для гражданской жизни полезными».[14]
Среди знаменитых портретов смольнянок Д. Г. Левицкого задерживает на себе внимание образ девицы Молчановой. Она не поет, не танцует и не играет на сцене. Она ставит физические опыты и изображена на фоне тускло поблескивающих медью штативов и стеклянных вакуумных колб. При этом Екатерина Ивановна восседает в типично светской позе, мило улыбаясь и опустив на нарядное золотистое платье закрытую книгу, точно готовая поддержать разговор с невидимым собеседником.
Заметим этот жест. Просвещенная дама XVIII столетия это еще и светская дама, а ни в коем случае не ученый-отшельник, углубленный в себя. Она для того и осваивает азы наук, чтоб стать еще милее, любезнее, притягательнее для более образованного противоположного пола, чтобы на равных вести диалог с кавалером, а кое в чем и опережать его. Французский посол в России во второй половине царствования Екатерины II граф Луи Сегюр отмечал: «Женщины ушли далее мужчин на пути совершенствования. В обществе можно было встретить много нарядных дам, девиц, замечательных красотою, говоривших на четырех и пяти языках, умевших играть на разных инструментах и знакомых с творениями известнейших романистов Франции, Италии и Англии».[15]
Возникновением именно такого образа просвещенной женщины XVIII столетия русские дамы были обязаны деятельности двух Екатерин, которые творили свою жизнь вопреки традиционным представлениям о круге сугубо дамских занятий и интересов.
Компаньонка
С расширением рамок привычного женского мира, с изменением круга традиционных дамских занятий и развлечений, с появлением возможности принимать участие в общественной жизни, возникла насущная потребность в большей свободе передвижения. В кампании приятельниц, вдвоем с подругой или родственницей дама могла прогуливаться, посещать лавки, поехать в оперу, даже поддерживать разговор с незнакомым для одной из приятельниц мужчиной и таким образом расширять собственный круг знакомств, как это происходит при встрече Екатерины Романовны с ее будущим мужем, которого хорошо знает одна из сестер Самариных и представляет девице Воронцовой.
«Был чудесный летний вечер… — рассказывает Дашкова, — и так как улица, в которой жила Самарина, была спокойной, то сестра ее предложила проводить меня пешком до конца этой улицы; я охотно согласилась и приказала кучеру подождать меня там. Едва мы прошли несколько шагов, как перед нами очутилась высокая фигура, мелькнувшая из другой улицы… Я испугалась и спросила свою спутницу, что это значит? И в первый раз в моей жизни услышала имя князя Дашкова. Он по-видимому очень коротко был знаком с семейством Самариных; между нами завязался разговор; незнакомый князь случайно заговорил со мною, и его вежливый и скромный тон расположил меня в его пользу».[16]
Обменяться книгами, пройтись по улице, отправиться в театр, не говоря уже о дальнем путешествии — всего этого женщина не могла сделать в одиночестве. Ее жизнь была стеснена тысячью мелких ограничений. Когда девица Воронцова бывала в доме упомянутых нами Самариных, то в гости ее сопровождала горничная, а в обратный путь — одна из подруг.

Среди правителей России императрица Екатерина II, или Екатерина Великая (1729–1796), занимает особое место. Немка по происхождению, не имевшая никаких династических прав на русский престол, она захватила его в результате переворота и в течение тридцати четырех лет самодержавно и твердо управляла огромной империей. Время ее правления называют «золотым веком» русского дворянства. Две победоносные войны с Турцией и одна со Швецией, присоединение Крыма и освоение Новороссии, разделы Польши, в результате которых православные украинские земли вошли в состав Российского государства, — все это тоже блестящие достижения «золотого века» Екатерины.
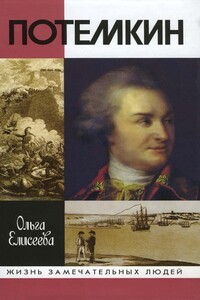
Его называли гением и узурпатором, блестящим администратором и обманщиком, создателем «потемкинских деревень». Екатерина II писала о нем как о «настоящем дворянине», «великом человеке», не выполнившем и половину задуманного. Первая отечественная научная биография светлейшего князя Потемкина-Таврического, тайного мужа императрицы, создана на основе многолетних архивных разысканий автора. От аналогов ее отличают глубокое раскрытие эпохи, ориентация на документ, а не на исторические анекдоты, яркий стиль.
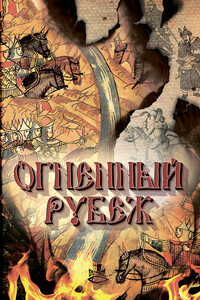
Сборник «Огненный рубеж» посвящен событиям Великого Стояния на Угре 1480 года. В книгу вошли историко-мистические, историко-приключенческие, просто исторические повести и рассказы. Тихая река Угра – не только рубеж обороны, где решалась судьба юной России. Это еще и мистический рубеж, место, где силы зла оказывают страшное давление и на полки, и на души людей. Древнее зло оживает в душах, но с ним можно справиться, потому что на всякую силу найдется сила еще большая.
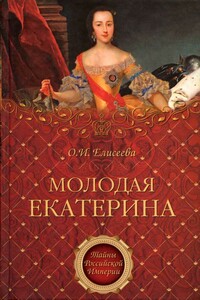
Книга известного историка и писателя Ольги Елисеевой рассказывает о молодых годах Екатерины — будущей «владычицы полумира». Еще в 14 лет она составила свой план: «нравиться супругу, императрице Елизавете и народу» — и ничего не забыла, чтобы достигнуть в этом успеха. Какие средства использовала юная супруга наследника для осуществления своих амбициозных планов? Искренне ли желала она наделить своих поданных «счастьем, свободой и собственностью»? Как республиканка «в душе» стала одним из самых могущественных самодержцев? Чтобы заглянуть в тайники души Екатерины Великой, автор обращается к ее воспоминаниям…
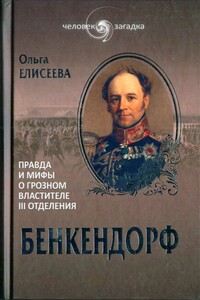
Наши современники хорошо усвоили со школьной скамьи, что Бенкендорф был для Пушкина «злой мачехой», нерадивой нянькой. Зададимся вопросом: а кем Пушкин был для Бенкендорфа? Скрещение биографии Бенкендорфа с биографией Пушкина — удобный случай рассказать о шефе жандармов больше, чем принято. И не только о нем. За плечами Александра Христофоровича вырастает целый мир, встают события и люди, которые как будто не играют в жизни поэта особой роли или значатся «недругами». Читателю полезно узнать, что коловращение вокруг поэта было далеко не единственным и даже не центральным в тогдашней русской вселенной.
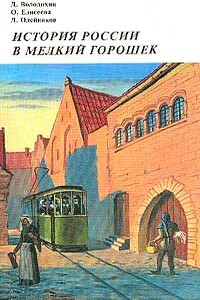
1. Ольга Елисеева против Эдварда Радзинского.2. Дмитрий Олейников против Мурада Аджи.3. Дмитрий Володихии против Анатолия Фоменко.Эта книга может быть названа «язвокорчевательной». Если авторам удалось выкорчевать несколько язв на многострадальном, уже почти при смерти находящемся теле отечественной истории, они считают свою задачу выполненной.Автор сканирования и проверки текста:Иван Сергеевич Юрьев.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.