Прощание из ниоткуда. Книга 2. Чаша ярости - [19]
— Да, Владислав Алексеич свет Самсонов, — насмешливо пожевал тот губами, — далеко пойдешь, если тебя белая горячка не остановит. — И вдруг отвердел ликом и уже без обычного своего ерничанья спросил, будто ударил наотмашь: — А зачем?
Поклон тебе, Леня, за урок, хотя и не сразу он тогда отрезвел от твоего отпора, долго еще затем продирался сквозь обиду и раздражение на всех и вся, но вскоре опамятовался и, оглядываясь впоследствии назад, не раз мысленно благодарил тебя за науку, которая сгодилась ему и на чужбине, где уже не партийные бонзы советской провинции и не по должности, а вполне респектабельные европейские божки местной интеллектуальной мафии и по искреннему убеждению сулили русскому неофиту золотые горы с кисельными берегами впридачу за ту же, примерно, цену: промолчи, слукавь, не вмешивайся. Только, видно, не в коня корм, глаз у него так устроен, не к синице в руке, а к журавлю в небе тянется.
Поклон тебе еще раз, Леня Епанешников!
В день премьеры с утра все в театре ходило ходуном. Кныш, трезвый и принаряженный, с озабоченным видом курсировал в обком и обратно, загадочно поглядывая на всех и усмехаясь. Улучив свободную минуту, он затащил Влада в кабинет и пошел на него полковничьим животом:
— Слухай сюда, Алексеич, ты ишшо под стол пешком ходил, когда я с парашютом на немецкие штыки прыгал, как отец тебе говорю, ты меня хучь сегодня послухай: до вечера ни-ни, ни капли чтобы в рот и не через клизму в задницу. Все будут, вся головка, на тебя большущий глаз положен, ты теперь, как сапер: чуть в сторону и кранты тебе, а если не дурак будешь, сразу — в дамки. Ясна дурьей твоей голове моя диспозиция?
И хотя эта самая „диспозиция” была Владу еще яснее, чем директору, клятвы ему хватило только до встречи с Ведищевым.
— А, именинник, — едва завидев его, заорал тот, — сегодня-то с тебя вдвойне причитается, вся пьеса на мне, хочу — казню, хочу — милую, айда к Сашку, начнем помолясь!
— Да ведь тебе играть!
— Запомни, трезвый я не работаю, трезвый я отдыхаю, хотя, честно тебе сказать, отдыхать мне некогда, себе дороже. — Отрезая ему пути для отступления, тот подталкивал и подталкивал его к выходу. — Понимаешь, — толковал ему актер по дороге, — в трезвой игре огня нет, вдохновения, так сказать, искры природы не чувствуется, сила духа оскудевает. Трезвый творец это бесплодная смоковница, евнух и даже хуже — пидарас вонючий. Помню, как-то принял я восемьсот без закуски перед выходом, вышел, слова, понимаешь, не помню, что играем, между прочим, тоже, но когда дали занавес, зал лежал, а главреж, сука, рот бы я его мотал, руки мне на сцену прибежал целовать, ну, сам понимаешь, я ему так поцеловал промеж рогов, что его потом водой отливали, в общем, уволили меня тогда по сорок седьмой ге, без права работать в театре, только в этой Тмутаракани и оклемался…
У дяди Саши все раскручивалось, как по заезженной пластинке: конечно же, в темном углу торчали аспидно черные глаза Абдулжалилова, затем появился Епанешни-ков, как черт из-под стойки выскочил Пал Палыч, даже неизменные Гашоков с Охтовым наперевес со своими подстрочниками по очереди сменили друг друга у их столика.
Кончилось тем, что на обратной дороге в театр Ведищев во все горло изображал, как он будет сегодня вечером „класть зал” своим исполнением „На заре ты ее не буди”, Пал Палыч нежным тенорком подпевал ему, а тянувшийся за ними следом Епанешников нудил у них за спиной:
— Жрецы херовые, не жрецы, а жеребцы, пить да баб харить, вот и все ваше призвание. Нажрались в день премьеры, пижоны вшивые, до вечера не дотянули, теперь на банкете вам даже лимонаду нельзя давать, вы от собственной мочи захмелеете. Боже мой, что за поколение, что за нравы, что за мужские правила, наконец!..
Кныш, выкатившийся им навстречу, даже дар речи потерял, только руками махал перед собой, как бы пытаясь отвести от себя кошмарное наваждение, а случившийся тут же Романовский презрительно вызверился к ним профилем, втянул в себя исходящие от них запахи и презрительно скрестил руки на груди:
— Так. — Сквозь его медальность отчетливо проглядывалось холодное бешенство. — Вы, Ведищев, завтра же увольняетесь без выходного пособия, теперь вам прямая дорога в сельский клуб билетером, больше вы ни на что не способны. — Он клюнул глазом в сторону директора. — До спектакля два часа, срочно тащите этого недоделанного Мочалова в баню, а вы, — это уже касалось Влада, — Шекспир районного масштаба, завтра со мной в обком, единственное, что я мог бы сейчас сделать, это нарвать вам уши.
И здесь Влад почувствовал, как поднимается в нем та темная всеподавляющая ярость, от которой у него всегда, сколько он себя помнил, темнело в глазах и жарко перехватывало дыхание. В такие мгновения он переставал владеть собой, и горе тому, кто тогда вставал у него на пути:
— Слушай ты, областной Станиславский…
Но тот, уже, видно, сообразивший, чем этот разговор может для него кончиться, мгновенно улетучился, бросив на ходу уже откуда-то из глубины фойе:
— Хорошо, поговорим в обкоме…
С этим самым Романом Николаевичем его еще сведет судьба, и не раз, хотя жизнь у них сложится по-разному, тот кончит театральную свою судьбу нелепо и жалко, чуть ли не попавшись на мелкой краже в майкопской драме, у них еще будут и неожиданные ссоры и куда более неожиданные сближения, но, тем не менее, этого человека он всегда будет вспоминать добрым словом: он все-таки получил от него больше, чем потерял.
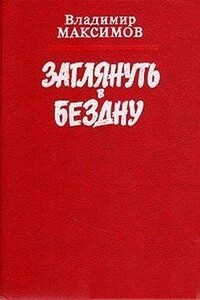
Роман о трагической любви адмирала Александра Васильевича Колчака и Анны Васильевной Тимиревой на фоне событий Гражданской войны в России.
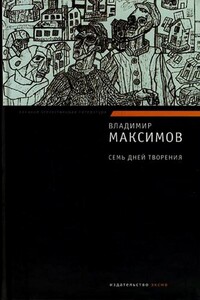
Владимир Максимов, выдающийся писатель «третьей волны» русского зарубежья, основатель журнала «Континент» — мощного рупора свободного русского слова в изгнании второй половины XX века, — создал яркие, оригинальные, насыщенные философскими раздумьями произведения. Роман «Семь дней творения» принес В. Максимову мировую известность и стал первой вехой на пути его отлучения от России. В проповедническом пафосе жесткой прозы писателя, в глубоких раздумьях о судьбах России, в сострадании к человеку критики увидели продолжение традиций Ф.

Роман «Прощание из ниоткуда» – произведение зрелого периода творчества известного русского прозаика, созданный в 1974 – 1981 годы, представляет собой своеобразный итог «советского периода» творчества Владимира Максимова и начало новых эстетических тенденций в его романистике. Роман автобиографичен, сила его эмоционального воздействия коренится в том, что читателю передаются личные, глубоко пережитые, выстраданные жизненные впечатления, что доказывается самоцитацией автора своих писем, статей, интервью, которые он вкладывает в уста главного героя Влада Самсонова.

Эту книгу надо было назвать «Книгой неожиданных открытий». Вы прочитываете рассказ, который по своим художественным достоинствам вполне мог принадлежать перу Чехова, Тургенева или Толстого, и вдруг с удивлением сознаете, что имя его автора вам совершенно незнакомо… Такова участь талантливых русских писателей – эмигрантов, печатавших свои произведения «на Чужбине», как обозначил место издания своих книг один из них.В книгу вошли также короткие рассказы таких именитых писателей, как Алексей Ремизов, Иван Шмелев, Евгений Замятин, Федор Степун, Надежда Тэффи.

Владимир Емельянович Максимов (Лев Алексеевич Самсонов) — один из крупнейших русских писателей и публицистов конца XX — начала XXI в. В 1973 году он был исключен из Союза писателей Москвы за роман «Семь дней творения». Максимов выехал во Францию и был лишен советского гражданства. На чужбине он основал журнал «Континент», вокруг собрались наиболее активные силы эмиграции «третьей волны» (в т. ч. А. И. Солженицын и А. А. Галич; среди членов редколлегии журнала — В. П. Некрасов, И. А. Бродский, Э. И. Неизвестный, А. Д. Сахаров). После распада СССР В.

Сборник из рассказов, в названии которых какие-то числа или числительные. Рассказы самые разные. Получилось интересно. Конечно, будет дополняться.
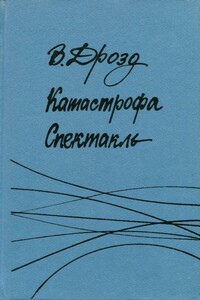
Известный украинский писатель Владимир Дрозд — автор многих прозаических книг на современную тему. В романах «Катастрофа» и «Спектакль» писатель обращается к судьбе творческого человека, предающего себя, пренебрегающего вечными нравственными ценностями ради внешнего успеха. Соединение сатирического и трагического начала, присущее мироощущению писателя, наиболее ярко проявилось в романе «Катастрофа».

Сборник посвящен памяти Александра Павловича Чудакова (1938–2005) – литературоведа, писателя, более всего известного книгами о Чехове и романом «Ложится мгла на старые ступени» (премия «Русский Букер десятилетия», 2011). После внезапной гибели Александра Павловича осталась его мемуарная проза, дневники, записи разговоров с великими филологами, книга стихов, которую он составил для друзей и близких, – они вошли в первую часть настоящей книги вместе с биографией А. П. Чудакова, написанной М. О. Чудаковой и И. Е. Гитович.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
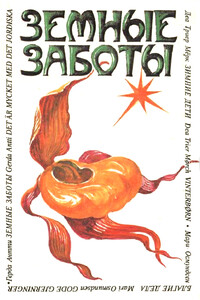
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

