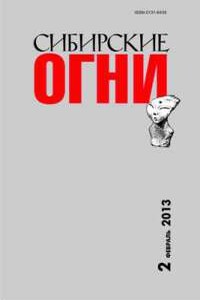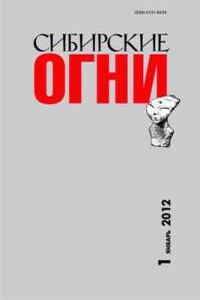Тангут, село в сорок дворов, лежал в междугорье, как между ладоней. Извилистой веной бежала речка Сутайка — зимой в долине было намного теплее, чем в открытой степи. Умные головы выбрали это место. Если в летний день обогнуть сопки, то у редкого всадника не захватывало дух при виде зеленых брызг смешанного кудряво-игольчатого леса; они взлетали выше и дальше, к кедровникам, разрываясь в седловине манящим яично-сиреневым уголком степи. Зеленое и желтое будто приклеились к неподвижной и ровной голубизне, к изумрудному полотну, и сама река, казалось стекает с этой перевернутой небесной пиалы, что укрыло селение от ветров. С любовью, с оглядкой рубились первые дома. Чтобы всего было вдосталь, чтобы себе и внукам досталось… Благословенна эта земля: отзывчива на ласку, богата на охоту, лесные дары и рыбу, хотя последнюю в Тангуте не жаловали, кроме разве что сопленосой ребятни. Кто бы мог подумать, что в войну эти сопляки наравне с матерями станут главными добытчиками, в том числе нежданно пришедшихся по вкусу мясистых, хотя и мелких хариусов!..
И только поздней осенью вдоль посеревших горных ладоней запевал скучную тягучую песню западный ветер, предупреждая, что зима не за горами…
Старая Долгор лежала по ночам с открытыми глазами, слушала, как свистит в трубе западник, словно озорной мальчишка в стреляную гильзу; вызванивая, гнет стекла в окнах, полощет соседское белье, хлопает сорванной с крючка калиткой пустого хотона… Сердца своего она не слышала, но не так, как здоровые люди. Оно будто сжалось в комочек и играет в прятки: то разожмется, заколотится, то пропадет. Она сразу же думала о сыне — и тоска, въедливая, упрятанная днем в дальний сундучок души, вылезала и садилась на нее верхом, Тоска представлялась ей в темени притихшего дома такой же старой и дряхлой, как она сама, но не в пример ей — худенькой и легонькой — налитой чугунной тяжестью старухой. Долгор вставала с широкой и низкой кровати, на которой ей было так одиноко, едва слышно шлепала по холодному полу, привычно чиркала спичками, подносила огонек к чашечке с сухими травами — и дом наполнялся запахами летней степи. В углу на возвышении тускло отливали медные бурханы. по не к ним Долгор протягивала руки.
«Оёяа-а…» — вздыхала она, и столько горести, обиды и отчаяния было в этом вздохе! Напрягаясь, она глядела на стену, туда, где висела раскрашенная фотография, и в темноте видела черты бесконечно родного лица: высокий, чуть выпуклый лоб с зачесанными назад волосами, круглые, как у девушки, брови; глаза — строгие и требовательные, нос с горбинкой, матовые скулы с рединкой на левой щеке… Он был стройный, стянутый в талии ремнем, непривычно белолицый — на него откровенно заглядывались юные тангутки, те, кто и поныне помнят о нем обессилевшими старухами. Время летит, словно ветер в степи, и стреле памяти не угнаться… Долгор кажется, будто и не жила она вовсе. Жизнь — коротка к, полный хлопот день. Рассвет — боль, рождение сына, полдень — вдовья доля, соленый пот на губах, вечер — баюканье дочерей, потом война — ночь…
Матвей успел закончить десятилетку и с новеньким аттестатом на взмыленном коне примчался с черной вестью. Он был такой, ее сын, — не боялся ничего, ни жары, ни холода. Зимой — на лыжах, весной и осенью — пешком каждый день ходил за пятнадцать километров в райцентр в десятилетку — единственный из тангутских сверстников. По вечерам помогал по хозяйству, учил младших сестренок доить корову — единственную их кормилицу, допоздна сидел над учебниками. Учителя прочили ему светлую будущность, называли «самородком» и другими мудреными словами — Долгор однажды была в школе, ей как вдове вручили отрез вельвета и грамоту-благодарность за сына. С раскрасневшимся от счастья лицом шла она, прижимая отрез к груди, по раскисшей дороге в Тангут и вспоминала мужа — вот бы порадовался Даба! Муж утонул ранней весной, угодил в полынью. Сын настоял, чтобы Долгор пошила из красивого темно-зеленого вельвета праздничный дэгэл. Тогда, весной 41-го года, она была еще привлекательной женщиной…
Он первый в классе сказал, что нужно готовиться к войне. И готовился — организовал военный кружок, за окраиной Тангута подростки ползали в пыли с палками, кричали «ура», ходили в атаку, целились из охотничьих ружей в размалеванные чурки, изображавшие толстых капиталистов. Кому-то это не понравилось, и однажды Матвея прямо с занятий увели люди в военной форме. Но через неделю, осунувшегося, похудевшего, отпустили, посчитали: молод, глуп.
А оказалось — поумнее иных взрослых.
На войну Матвея не брали — года не хватало. Все лето 41-го, засушливое и жаркое, он уходил по той же пыльной дороге в районный военкомат и возвращался к концу дня расстроенным. Поздней осенью, когда немец подошел к Москве, Матвей на рассвете с такими же не терпеливыми сверстниками-тангутцами ушел на лыжах в город — обивать пороги военкоматов. Каково было идти в ноябрьские морозы без малого сотню верст — только им ведомо… Матвей оставил записку, в которой просил прощения у матери и сестренок. И — ни слова больше. След от его лыж черными рельсами тянулся за окраину села, вдоль реки — впаялся, вмерз в ее память.