Прометей, том 10 - [6]
«Несмотря на скромность Пушкина, нельзя было графу не заметить его чувств. Он не унизился до ревности, но ему казалось обидно, что ссыльный канцелярский чиновник дерзает подымать глаза на ту, которая носит его имя. И боже мой! Поэтическая страсть всегда бывает так не опасна для предметов, её возбуждающих; она скорее дело воображения и производит неловкость, робость, которые уничтожают возможность успеха.
Как все люди с практическим умом, граф весьма невысоко ценил поэзию; гениальность самого Байрона ему казалась ничтожной, а русский стихотворец в глазах его стоял едва ли выше лапландского. А этот водворился в гостиной жены его и всегда встречал его сухими поклонами, на которые, впрочем, он никогда не отвечал. Негодование возрастало, да и Пушкин, видя явное к себе презрение начальника, жестоко тем обижался и, подстрекаемый Раевским, в уединённой с ним беседе часто позволял себе эпиграммы. Не знаю как, но, кажется, через Франка все они доводимы были до графа»[39].
«Ещё зимой, чутьём слышал я опасность для Пушкина, — вспоминает Вигель, — не позволял себе давать ему советов, но раз шутя сказал ему, что по африканскому происхождению его всё мне хочется сравнить его с Отелло, а Раевского — с неверным другом Яго. Он только что засмеялся»[40].
Как развивались отношения Пушкина с Воронцовой — неизвестно. Не раз случалось, что встречи прекращались. Так, вероятно, 12 марта[41] выехал Пушкин в Кишинёв — повидаться с Инзовым, который огорчался тем, что Пушкин перешёл от него к Воронцову.
Возвратился Пушкин в Одессу спустя три недели[42]. Графини Воронцовой в городе он не застал. Она ещё дней за десять уехала в Белую Церковь к матери. Вернулась числа 18—19 апреля[43].
В первых числах мая покидала Одессу Амалия Ризнич. Она давно уже тяжело болела изнурительной лихорадкой, усилившейся после родов. К весне ей стало ещё хуже. Врачи посылали её в Швейцарию, а на зиму — в Италию[44].
Прощание Пушкина с нею отозвалось в одном из самых совершенных созданий его лирики. Произошло это шесть лет спустя, во время трёхмесячного пребывания в Болдине. Окружённый карантинами, отрезанный от мира, готовясь к браку, поэт «отрывал» себя от когда-то дорогих ему женщин.
(III, 257)[45].
Это о Ризнич, вспоминая её в Михайловском, писал поэт в «Путешествии Онегина»:
(VI, 464).
(Муж её, Иван Ризнич, был негоциантом, сербом, жившим в Одессе.)
И в «Путешествии…» — её живой, пленительный портрет:
(VI, 205).
На полях черновика этой строфы набросан изящнейший рисунок — молодая женщина в длинном платье, с откинутой головой, подымается в карету. Мы догадываемся, что это зарисовка по памяти Амалии Ризнич, отъезжающей из театра[46]. Рисунок, как всегда, предшествует связанному с ним тексту: на следующей странице — строфа, описывающая разъезд после оперы.
Называя её имя, поэт откровенно пишет:
Впрочем, тут же, в беловой рукописи, имя её тщательно зачёркивается и заменяется обобщённым:
(VI, 57 и 578).
А затем создаются пронзительные по неистовой силе чувства и художественного выражения строфы:
(VI, 611).
Эти строфы из главы шестой — лирическое отступление после эпизода о ревности Ленского — написаны в Михайловском, по-видимому, в ноябре 1826 года. Печатать их Пушкин не стал, но на пропуск указал цифрами, обозначающими строфы: XV, XVI.

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Уникальное издание, основанное на достоверном материале, почерпнутом автором из писем, дневников, записных книжек Артура Конан Дойла, а также из подлинных газетных публикаций и архивных документов. Вы узнаете множество малоизвестных фактов о жизни и творчестве писателя, о блестящем расследовании им реальных уголовных дел, а также о его знаменитом персонаже Шерлоке Холмсе, которого Конан Дойл не раз порывался «убить».
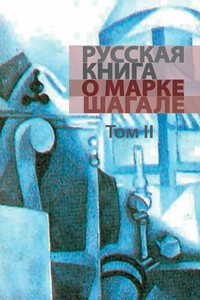
Это издание подводит итог многолетних разысканий о Марке Шагале с целью собрать весь известный материал (печатный, архивный, иллюстративный), относящийся к российским годам жизни художника и его связям с Россией. Книга не только обобщает большой объем предшествующих исследований и публикаций, но и вводит в научный оборот значительный корпус новых документов, позволяющих прояснить важные факты и обстоятельства шагаловской биографии. Таковы, к примеру, сведения о родословии и семье художника, свод документов о его деятельности на посту комиссара по делам искусств в революционном Витебске, дипломатическая переписка по поводу его визита в Москву и Ленинград в 1973 году, и в особой мере его обширная переписка с русскоязычными корреспондентами.
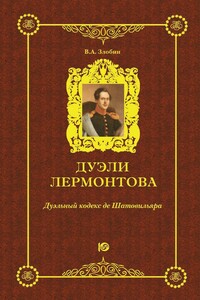
Настоящие материалы подготовлены в связи с 200-летней годовщиной рождения великого русского поэта М. Ю. Лермонтова, которая празднуется в 2014 году. Условно книгу можно разделить на две части: первая часть содержит описание дуэлей Лермонтова, а вторая – краткие пояснения к впервые издаваемому на русском языке Дуэльному кодексу де Шатовильяра.
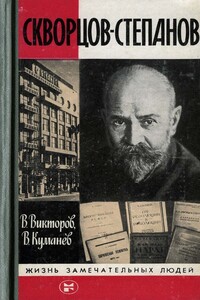
Книга рассказывает о жизненном пути И. И. Скворцова-Степанова — одного из видных деятелей партии, друга и соратника В. И. Ленина, члена ЦК партии, ответственного редактора газеты «Известия». И. И. Скворцов-Степанов был блестящим публицистом и видным ученым-марксистом, автором известных исторических, экономических и философских исследований, переводчиком многих произведений К. Маркса и Ф. Энгельса на русский язык (в том числе «Капитала»).