Прометей, том 10 - [142]
Можно к этому всему только добавить, что письмо Алексеева написано хорошо и живо: «Русская и французская литература не были ему чужды, — вспоминал Липранди. — Он из гражданских чиновников был один, в лице которого Пушкин мог видеть в Кишинёве подобие образованным столичным людям, которых он привык видеть»[715].
(XIII, 309)
На лету подхвачен стиль, предложенный Алексеевым, — в письмо вплетаются подходящие к случаю строки Жуковского.
Ещё и трёх месяцев не минуло, как Пушкина освободили. Уже свободным едет из Москвы в Михайловское, но на обратном пути опрокинут и помят ямщиками, отлёживается в псковской гостинице, «бесится, играет и проигрывает», а 1 декабря, кажется, взялся написать всем друзьям подряд, кому задолжал ответом: кроме Алексеева, пишет Вяземскому, Зубкову и Соболевскому. (Через несколько дней, накануне первой годовщины 14 декабря, напишет ещё одному: «Мой первый друг, мой друг бесценный…»)
«Не могу изъяснить тебе моего чувства при получении твоего письма. Твой почерк опрятный и чопорный, кишинёвские звуки, берег Быка, Еврейка, Соловкина, Калипсо. Милый мой: ты возвратил меня Бессарабии! я опять в своих развалинах — в моей тёмной комнате, перед решётчатым окном или у тебя, мой милый, в светлой, чистой избушке, смазанной из молдавского <—>. Опять рейн-вейн, опять Champan, и Пущин, и Варфоломей, и всё…»
Бывало, хотелось из Кишинёва убежать куда угодно («Проклятый город Кишинёв! Тебя бранить язык устанет…»). А через 4 года — «Милый мой, ты возвратил меня Бессарабии». Михайловское — тоже было «тюрьмой» («мраком заточенья»), но за несколько дней до этого письма отправилось послание Вяземскому: «Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму». Слух Пушкина ласкают кишинёвские звуки. Таков поэт: и «берег Быка», и «Калипсо», и «Еврейка» — это прежде всего звучание Кишинёва, недавнего прошлого. И Соловкина, по которой «бредил», не воспринята как реальная личность: не смерть её, но имя взволновало Пушкина — «Соловкина… Бык, Еврейка, Варфоломей, рейн-вейн…»
«Как ты умён, что написал мне первый! Мне бы эта счастливая мысль никогда в голову не пришла, хоть и часто о тебе вспоминаю и жалею, что не могу ни бесить тебя, ни наблюдать твои манёвры вокруг острога».
Пушкин уехал с юга, «по этикету» должен бы написать первым, да не догадался. Старая дружба легко может возобновиться при встрече, но три года и сотни вёрст разделяют, и, кроме как о прошлом, говорить почти не о чем. Да в письмах и нельзя откровенничать. Слова «вокруг острога» позже густо зачёркнуты. Может быть, самим Алексеевым или каким-то перепуганным потомком? Возможно, в этих словах скрывается какой-то особый, опасный смысл (между прочим, в той же дневниковой записи, где Пушкин отметил посещение Алексеева и Пестеля, дальше следовало: «Потом был я в здешнем остроге…»).
«Был я в Москве и думал: авось, бог милостив, увижу где-нибудь чинно сидящего моего чёрного друга, или в креслах театральных, или в ресторации за бутылкой. Нет — так и уехал во Псков — так и теперь опять еду в белокаменную. Надежды нет иль очень мало. По крайней мере пиши же мне почаще, а я за новости кишинёвские стану тебя потчевать новостями московскими. Буду тебе сводничать старых твоих любовниц… Я готов доныне идти по твоим следам, утешаясь мыслию, что орогачу друга».
Вероятно, в годы оны в Кишинёве много толковали о родной Москве и о прежних похождениях Николая Степановича, что даёт Пушкину повод ещё раз намекнуть на старое соперничество и госпожу Эйхфельдт и снова — скрытые стихи; «Надежды нет иль очень мало» — а в сказке «Царь Никита и сорок его дочерей», написанной в Кишинёве за четыре года до этого письма, — «ничего иль очень мало».
«Липранди обнимаю дружески, жалею, что в разные времена съездили мы на счет казённый и не соткнулись где-нибудь».
Письмо, посланное Вяземскому через Киселёвых, прежде попадёт на псковскую почту. Поэтому строки о Липранди самые смелые во всём тексте: «на счет казённый» Пушкин ездил в ссылку и из ссылки, Липранди же был взят под арест по делу 14 декабря, но сумел оправдаться.
А. П. 1 дек.»
«Удостоверение дружбы» — несколько новых стихотворных строк. «Отшельник бессарабской» и «Лукавый друг» — понятны, последние же две строки, видимо, скрывают какой-то смысл. Если не усмирить вовремя фантазию, то легко вообразить: поскольку Алексеев знал Пестеля и посещал вместе с ним Пушкина, то «Русская правда» — возможно, Пестелева программа переустройства России… Но надо вовремя усмирять фантазию.
В тот же день, 1 декабря 1826 года, Пушкин запечатал письмо и на конверте написал: «Его сиятельству князю Петру Андреевичу Вяземскому. В Москве, в Чернышевском переулке, в собственном доме». В том же конверте отправилось и послание к хозяину «собственного дома», начинавшееся со слов: «Ангел мой Вяземской… пряник мой Вяземской!» — и заканчивавшееся: «При сём письмо к Алексееву (род моего Сушкова), отдай для доставки Киселёву — вой, вым, как хошь».
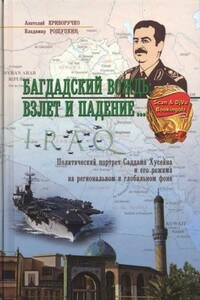
Авторы обратились к личности экс-президента Ирака Саддама Хусейна не случайно. Подобно другому видному деятелю арабского мира — египетскому президенту Гамалю Абдель Насеру, он бросил вызов Соединенным Штатам. Но если Насер — это уже история, хотя и близкая, то Хусейн — неотъемлемая фигура современной политической истории, один из стратегов XX века. Перед читателем Саддам предстанет как человек, стремящийся к власти, находящийся на вершине власти и потерявший её. Вы узнаете о неизвестных и малоизвестных моментах его биографии, о методах руководства, характере, личной жизни.
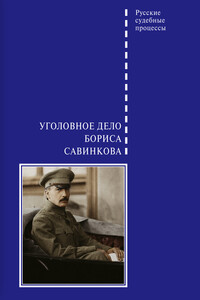
Борис Савинков — российский политический деятель, революционер, террорист, один из руководителей «Боевой организации» партии эсеров. Участник Белого движения, писатель. В результате разработанной ОГПУ уникальной операции «Синдикат-2» был завлечен на территорию СССР и арестован. Настоящее издание содержит материалы уголовного дела по обвинению Б. Савинкова в совершении целого ряда тяжких преступлений против Советской власти. На суде Б. Савинков признал свою вину и поражение в борьбе против существующего строя.

18+. В некоторых эссе цикла — есть обсценная лексика.«Когда я — Андрей Ангелов, — учился в 6 «Б» классе, то к нам в школу пришла Лошадь» (с).

У меня ведь нет иллюзий, что мои слова и мой пройденный путь вдохновят кого-то. И всё же мне хочется рассказать о том, что было… Что не сбылось, то стало самостоятельной историей, напитанной фантазиями, желаниями, ожиданиями. Иногда такие истории важнее случившегося, ведь то, что случилось, уже никогда не изменится, а несбывшееся останется навсегда живым организмом в нематериальном мире. Несбывшееся живёт и в памяти, и в мечтах, и в каких-то иных сферах, коим нет определения.
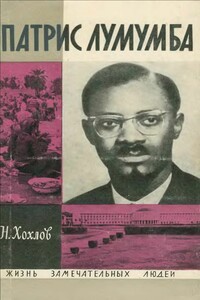
Патрис Лумумба стоял у истоков конголезской независимости. Больше того — он превратился в символ этой неподдельной и неурезанной независимости. Не будем забывать и то обстоятельство, что мир уже привык к выдающимся политикам Запада. Новая же Африка только начала выдвигать незаурядных государственных деятелей. Лумумба в отличие от многих африканских лидеров, получивших воспитание и образование в столицах колониальных держав, жил, учился и сложился как руководитель национально-освободительного движения в родном Конго, вотчине Бельгии, наиболее меркантильной из меркантильных буржуазных стран Запада.

Результаты Франко-прусской войны 1870–1871 года стали триумфальными для Германии и дипломатической победой Отто фон Бисмарка. Но как удалось ему добиться этого? Мориц Буш – автор этих дневников – безотлучно находился при Бисмарке семь месяцев войны в качестве личного секретаря и врача и ежедневно, методично, скрупулезно фиксировал на бумаге все увиденное и услышанное, подробно описывал сражения – и частные разговоры, высказывания самого Бисмарка и его коллег, друзей и врагов. В дневниках, бесценных благодаря множеству биографических подробностей и мелких политических и бытовых реалий, Бисмарк оживает перед читателем не только как государственный деятель и политик, но и как яркая, интересная личность.