Прогулка под деревьями - [41]
Сегодня, одиннадцатого октября, в шесть часов вечера, над камнями и цветами снова поднимается бесконечно высокое серебряное зеркало, не отражающее ровно ничего, и уж тем более моего лица. Я зажигаю сухие листья, сметенные к его подножию: получается как бы сосуд, наполненный еле теплым, тлеющим пеплом и влажной землей, как бы благоговейное приношение, свершаемое у подножия этого серебрящегося неба. Этого ледника. Гора у меня за спиной начинает засыпать.
Облака: розовые, но, как всякий огонь, готовые превратиться в облака сажи. Последнее, уже не тяготящее ни даль, ни глаза, соцветие, последнее, неописуемого алого оттенка, тихое пылание — последнее в этот день, может быть, последнее в жизни.
Последняя, еще не сорванная роза.
Эти сумерки пылают в саду каким-то беззвучным огнем; однако внизу, под деревьями, трава уже мало-помалу темнеет, погружается во мрак. (Вот место, где умершие могли бы утолять свою жажду, где они нашли бы для себя колыбели, мягкие подстилки.) Да, все деревья объяты этим пламенем, горящим без треска и хруста, похожим скорее на разбрызганное золото, на колыхание свечей; может даже показаться, что вокруг расставлены бесчисленные канделябры. А вверху развернуло свои бледно-желтые лепестки вечернее небо. Оно возникло передо мной совершенно неожиданно, точно встав рывком на этой бескрайней изукрашенной подставке. Что тут сказать: такого широкого, такого настежь распахнутого неба я еще в жизни не видел.
Оно целиком, без остатка отдает себя нашему взгляду, нашему дыханию! Какой простор, здесь могли бы собраться все умершие, никогда больше не испытывая стеснения и удушья.
Неужели жаворонки так и не устанут взмывать ввысь, даже сейчас, над этими раскисшими зимними полями? Узкие снежные полосы на дальних горных вершинах медленно розовеют, а леса, растущие ниже, становятся фиолетовыми: теперь они напоминают не столько гигантские букеты, постепенно превращающиеся в слитные пятна, сколько загадку, мелькнувшую в потупленных глазах, или воспоминание о чьих-то опаляющих словах, почти стершееся из нашей памяти. Как бы предпоследний цвет, который еще дано видеть перед тем, как все утонет в черной тьме. Фиолетовый, родственный дряхлости угасающего дня. Фиолетовый… еще точнее — прощальный.
Из всех этих цветов, которые на самом деле не совсем цветы, а скорее все, что удалось так или иначе вобрать взглядом и что в свою очередь — светящееся, неуловимое, одновременно и близкое, и далекое — напоминает взгляды чьих-то глаз, — так вот, из этих цветов хотелось бы еще раз, несмотря ни на что, сплести какое-то подобие венка. Несмотря ни на что: пусть по земле уже бегут трещины, пусть в ее недрах и у нас за спиной раздается страшный грохот… У меня все же выйдет, я знаю, что-то вроде старинной картины: рука (конечно же, обреченная когда-нибудь позже истлеть, превратиться в сухую кость), держащая сплетенный венок над спящей женщиной, — словно созвездие, которое еще не получило и никогда не получит названия, слишком для этого хрупкое, слишком раскаленное, слишком высокое. Навеки — что бы ни взбрело нам в голову, чем бы мы себя ни пугали — повисшее над ее безмолвными, но дышащими устами: как бы воспламенившийся пар этого ровного дыхания.
Перевод М. Гринберга
Деревушка
Ночью мне вновь приснилась эта прогулка: яркие, как горячечный бред, образы всплыли в конце одного из тех снов, которые хочется длить и длить, только бы не распалось влажное и головокружительно нежное сплетение грез. Как и прежде, это была реальность, часть нашего мира — и в то же время видение, до такой степени необычное, что к глазам подступили слезы (не сразу же, в первый момент, а потом, когда передо мной, призрачно-непостижимая, возникла та затерянная в горах долина, где мы и в самом деле когда-то побывали).
Кто-то говорил мне странным голосом (и это был не голос кукушки, время от времени прорывавшийся сквозь прутья дождя — единственной клетки, которая не отбивает у этой птицы охоту кричать): «Передайте…» — как если бы дело шло о секретном, не подлежащем разглашению приказе, о военной тайне, от сохранения которой зависит победа и спасение. Говорить было некому — голос мог принадлежать разве лишь самой местности, по которой вместе со всеми шел и я. Впрочем, это были не слова, не членораздельная фраза, а лишь смутный гул, катившийся над обочиной дороги, и не слишком высоко: чуть выше моей головы.
Не стоит приводить здесь название этой деревушки, даже его первую букву. В ней было всего четыре-пять домов (я, честно говоря, не присматривался: в строгом смысле слова, вообще не смотрел) — настоящих крестьянских хуторов, возле которых не было видно ни души (наверно, потому, что день был воскресный), еще не разрушившихся, обнесенных старинными, без следов ремонта или перестройки, стенами; и если где-то, к примеру, стояла ручная тележка, то на ней, без сомненья, по-прежнему возили силос или навоз, а на худой конец попросту бросили ее гнить под открытым небом — но ни в коем случае не «приберегали» для того, чтобы высадить в ней герани и поставить посреди газона. Рядом с домами, сложенными из старых-престарых камней и бревен, — старые же плодовые деревья, с облезлыми, корявыми, больными стволами и сучьями. (Все это я не видел, а скорее угадывал — под серым, грозившим обернуться чернильной тьмой, небом, которое нависало над еще более древними бастионами гор, довольно высоких, с пятнами еще не сошедшего снега на северных склонах.)

Сделав христианство государственной религией Римской империи и борясь за её чистоту, император Константин невольно встал у истоков православия.

Эта повесть или рассказ, или монолог — называйте, как хотите — не из тех, что дружелюбна к читателю. Она не отворит мягко ворота, окунув вас в пучины некой истории. Она, скорее, грубо толкнет вас в озеро и будет наблюдать, как вы плещетесь в попытках спастись. Перед глазами — пузырьки воздуха, что вы выдыхаете, принимая в легкие все новые и новые порции воды, увлекающей на дно…

Ник Уда — это попытка молодого и думающего человека найти свое место в обществе, которое само не знает своего места в мировой иерархии. Потерянный человек в потерянной стране на фоне вечных вопросов, политического и социального раздрая. Да еще и эта мистика…

Футуристические рассказы. «Безголосые» — оцифровка сознания. «Showmylife» — симулятор жизни. «Рубашка» — будущее одежды. «Красное внутри» — половой каннибализм. «Кабульский отель» — трехдневное путешествие непутевого фотографа в Кабул.

Книга Сергея Зенкина «Листки с электронной стены» — уникальная возможность для читателя поразмышлять о социально-политических событиях 2014—2016 годов, опираясь на опыт ученого-гуманитария. Собранные воедино посты автора, опубликованные в социальной сети Facebook, — это не просто калейдоскоп впечатлений, предположений и аргументов. Это попытка осмысления современности как феномена культуры, предпринятая известным филологом.

Не люблю расставаться. Я придумываю людей, города, миры, и они становятся родными, не хочется покидать их, ставить последнюю точку. Пристально всматриваюсь в своих героев, в тот мир, где они живут, выстраиваю сюжет. Будто сами собою, находятся нужные слова. История оживает, и ей уже тесно на одной-двух страницах, в жёстких рамках короткого рассказа. Так появляются другие, долгие сказки. Сказки, которые я пишу для себя и, может быть, для тебя…
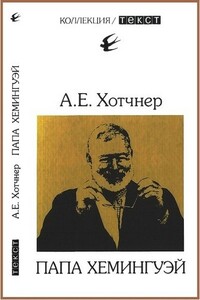
А. Э. Хотчнер — известный американский драматург и киносценарист, близкий друг Хемингуэя на протяжении многих лет, вплоть до смерти писателя в 1961 году. Вместе они путешествовали по Испании, охотились в Айдахо, рыбачили на Кубе. В своих откровенных и искренних мемуарах Хотчнер создает яркий и трагический образ выдающегося писателя.
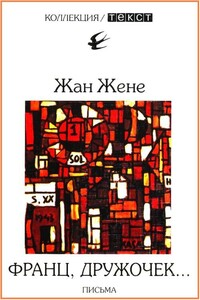
Письма, отправленные из тюрьмы, куда Жан Жене попал летом 1943 г. за кражу книги, бесхитростны, лишены литературных изысков, изобилуют бытовыми деталями, чередующимися с рассуждениями о творчестве, и потому создают живой и непосредственный портрет будущего автора «Дневника вора» и «Чуда о розе». Адресат писем, молодой литератор Франсуа Сантен, или Франц, оказывавший Жене поддержку в период тюремного заключения, был одним из первых, кто разглядел в беспутном шалопае великого писателя.
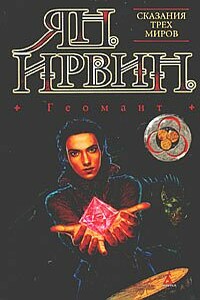
Уже две сотни лет население Саитенара ведет войну с лиринксами, разумными крылатыми хищниками из Бездны, которые готовы на все, чтобы сделать этот мир своим. Несмотря на развитие боевых машин, кланкеров, и овладение силой кристаллов — источников мощи для них, — человечество все ближе подходит к краю гибели. Один за другим враг уничтожает очаги сопротивления. Тиана — один из лучших мастеров по обработке силовых кристаллов. Однажды ей попадается необычный кристалл, который пробуждает скрытый талант к геомантии — наиболее могущественному и опасному виду Тайных Искусств.

Легенда о Драконьей Луне – красивая и печальная история любви, живущая в памяти Людей Крови, древнего, загадочного племени, к которому принадлежит и Питер де ла Сангре. Потеряв свою возлюбленную Элизабет, он живет с маленьким сыном на уединенном острове близ побережья Майами и надеется обрести счастье с новой подругой. По собственному опыту он знает, насколько это непросто. Испытания не заставляют себя ждать.