Проблема адресации - [2]
— Так… а здесь вообще… значит, со всеми… это случается?
— А как же! А как ты думал?… Так и случается, как видишь.
— И все отсылают? Это, я понял, норма?
— Но, дорогой мой… Конечно! А куда ж девать?… Или можешь сжечь. Дать тебе спички?
— У вас есть?
— Да. Я курю втихаря. Здесь можно достать подпольно.
Я замялся. Мне представилось, как сейчас я отойду за ёлку, и запалю этот конверт вместе с содержимым… Эх, если б вскрыть и ещё прочитать напоследок! Может что-то запомнилось бы… Или нет… — Кто-то другой должен прочесть. Я ощутил это так ясно, как будто знал всегда, с самого начала…
Марой сочувственно наблюдал мои колебания. Столь сочувственно, что даже смотрел в сторону, словно пытался разглядеть насвистывающую рядом синицу.
— Вообще-то это не моё дело, — произнёс он наконец, — но, дружище, извини… Я слышал, у тебя есть невеста… Почему не ей, а? — Это было бы самое простое…
9
Моя невеста — честь ей и хвала! — принадлежала со всей её роднёй к могу-щественнейшей религиозной общине скибов. А я был агностик, и она считала, что я веду неправильную жизнь… Суть-то проблемы заключалась в другом, как я потом догадался, но… Так или иначе, она уговорила меня поехать с ней в этот монастырь для беседы с опытными старцами, хавиями. А тут вероломно бросила меня, и не успел я опомниться, как оказался заперт и под надзором.
Первый хавий — низший, так называемый «привратник», из тех, кого прикрепляют ко вновь поступившим, — объяснил мне, что я пробуду здесь столько, сколько понадобится для моего духовного оздоровления. «Вы собираетесь вступить в брак, — говорил он почтительно, — а это дело слишком важное, чтобы позволить вам совершить его без надлежащей подготовки. Вы же знаете, что мать вашей невесты (ваша будущая тёща), матрона Фелга — одна из самых знатных и уважаемых благотворительниц общины. Поэтому вы должны понять…» — Я ничего понимать не желал, а только ругался скверными словами, даже богохульствовал, — однако вскоре увидел, что это не поможет: хавий оставался невозмутим и снисходителен. Терпеть оскорбления входило в его привычные обязанности. Нимало не ужаснуло его и моё заявление о том, что я порываю с невестой. «Помилуйте, — отозвался он, — никто вас женить насильно не собирается. Вы свободны в своих решениях. Только позвольте заметить, что эта свобода иллюзорна, ибо на самом деле ваши решения зависят как от внешних обстоятельств, так и от внутренних ваших, так сказать, настроений. И вот именно затем, чтобы научить вас подлинной свободе, мы и задерживаем вас здесь принудительно. Можете, если хотите, считать это парадоксом. Только этот парадокс стар, как мир… ну, не мир, — как человеческая культура, во всяком случае».
— Плевать мне на вашу культуру и на все её парадоксы, — кричал я. — У меня на руках парализованная мать и сестра, которую муж бросил с годовалым ребёнком. Кто будет зарабатывать им на жизнь и их обслуживать?
10
— Если вы не знаете адреса, то вы никогда его знать не будете, — произнёс он, взглянув на меня так, словно окатывал волной мрака. Но презрения не было в этой волне, и я понял, что не обманулся. Он указал влево, и мы двинулись за настоятельские покои. Вышли на обрыв.
11
Хавий-привратник искренне удивился:
— Как вы можете так думать? Вы что, не знаете?… Ваши родные переходят на попечение общины. Они не будут ни в чём нуждаться. С сегодняшнего дня уже им прислана служанка. И весь ваш заработок — не такой большой, по нашим сведениям — они получат в двукратном размере. А то и в трёхкратном, если будет необходимость. Так что пусть это вас не волнует… Пусть не это вас волнует, — поправил он себя веско… но то была, наверное, уловка, обычный приём, выполнявшийся автоматически.
— А что? — откликнулся я так же машинально, не успев сообразить, что я попадаюсь.
— Ваша душа, — пояснил он со скромной готовностью. — Смятённое и растерзанное состояние души вашей… И не «волнует» — я неверно выразился: получился дурной каламбур. Душа ваша и так болезненно взволнованна: ей надо прежде всего успокоиться. Вот вы и задержаны здесь, чтобы могли отключиться от всех забот и волнений… Здесь целебная атмосфера, в этом святом месте, — замечено многими и подтверждается в течение целого тысячелетия! Вы увидите, как уже через несколько дней затормозится в вас тот праздный поток сознания, который составляет истинное проклятие человека. А может быть и остановится совсем, — если доверитесь и откроете доступ в себя силам этого места… Тогда сможете задать вопросы, какие захотите, и получить на них ответы. А не захотите — не надо: всё равно душа ваша будет исцелена, и мы вас отпустим.
12
И лишь на волне происходящего мы поднимаемся… Но я этого ещё не понимал. Я противился, то есть содействовал разорению… Впрочем, моя невеста тоже только то и делала, что разоряла. В этом, выходит, мы были с ней заодно.
13
Делать было абсолютно нечего. Книги, газеты, телевизор — всё отсутствовало. Общие богослужения считались факультативными и, хотя на уклоняющихся от них многие смотрели косо, всё же это было допустимое вольномыслие. В основном, время протекало в прогулках по горам. Были лыжи, кое-кто катался — к этим относились с ироническим вздохом: мол, человек отдаёт дань мышечной бессмысленной деятельности. Вскоре я познакомился со многими (а что делать, если не сходиться и разговаривать?) — и все оказались вроде меня: «на отдыхе», так сказать. Но новичков не было: полгода и даже год — обычные сроки. Попадались и старожилы: по пятому, например, году, — эти сделались конформистами, отрабатывали систему, пели хвалу и не желали никуда уходить.

Есть писатели, которым тесно внутри литературы, и они постоянно пробуют нарушить её границы. Николай Байтов, скорее, движется к некоему центру литературы, и это путешествие оказывается неожиданно бесконечным и бесконечно увлекательным. Ещё — Николай Байтов умеет выделять необыкновенно чистые и яркие краски: в его прозе сентиментальность крайне сентиментальна, печаль в высшей мере печальна, сухость суха, влажность влажна — и так далее. Если сюжет закручен, то невероятно туго, если уж отпущены вожжи, то отпущены.
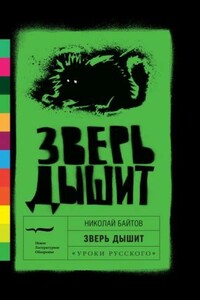
Николай Байтов — один из немногих современных писателей, знающих секрет полновесного слова. Слова труднолюбивого (говоря по-байтовски). Образы, которые он лепит посредством таких слов, фантасмагоричны и в то же время — соразмерны человеку. Поэтому проза Байтова будоражит и увлекает. «Зверь дышит» — третья книга Николая Байтова в серии «Уроки русского».
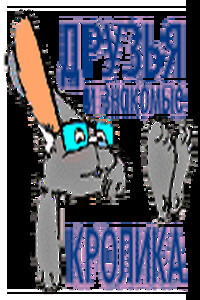
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Николай Байтов родился в 1951 году в Москве, окончил Московский институт электронного машиностроения. Автор книг «Равновесия разногласий» (1990), «Прошлое в умозрениях и документах» (1998), «Времена года» (2001). В книге «Что касается» собраны стихи 90-х годов и начала 2000-х.
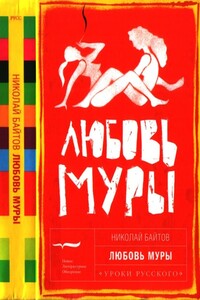
Роман в письмах о запретной любви двух женщин на фоне одного из самых мрачных и трагических периодов в истории России — 1930–1940-х годов. Повествование наполнено яркими живыми подробностями советского быта времен расцвета сталинского социализма. Вся эта странная история началась в Крыму, в одном из санаториев курортного местечка Мисхор, где встретились киевлянка Мура и москвичка Ксюша…В книге сохранены некоторые особенности авторской орфографии и пунктуации.Николай Байтов (р. 1951) окончил Московский институт электронного машиностроения.

Стихотворение Игоря Шкляревского «Воспоминание о славгородской пыли», которым открывается февральский номер «Знамени», — сценка из провинциальной жизни, выхваченная зорким глазом поэта.Подборка стихов уроженца Петербурга Владимира Гандельсмана начинается «Блокадной балладой».Поэт Олег Дозморов, живущий ныне в Лондоне, в иноязычной среде, видимо, не случайно дал стихам говорящее название: «Казнь звуколюба».С подборкой стихов «Шуршание искр» выступает Николай Байтов, поэт и прозаик, лауреат стипендии Иосифа Бродского.Стихи Дмитрия Веденяпина «Зал „Стравинский“» насыщены музыкой, полнотой жизни.
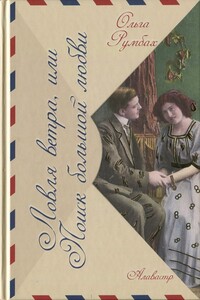
Книга «Ловля ветра, или Поиск большой любви» состоит из рассказов и коротких эссе. Все они о современниках, людях, которые встречаются нам каждый день — соседях, сослуживцах, попутчиках. Объединяет их то, что автор назвала «поиском большой любви» — это огромное желание быть счастливыми, любимыми, напоенными светом и радостью, как в ранней юности. Одних эти поиски уводят с пути истинного, а других к крепкой вере во Христа, приводят в храм. Но и здесь все непросто, ведь это только начало пути, но очевидно, что именно эта тернистая дорога как раз и ведет к искомой каждым большой любви. О трудностях на этом пути, о том, что мешает обрести радость — верный залог правильного развития христианина, его возрастания в вере — эта книга.

Шестеро молодых парней и одна девушка – все страстно влюбленные в музыку – организуют группу в надежде завоевать всемирную известность. Их мечтам не суждено было исполниться, а от их честолюбивых планов осталась одна-единственная записанная в студии кассета с несколькими оригинальными композициями. Группа распалась, каждый из ее участников пошел в жизни своим путем, не связанным с музыкой. Тридцать лет спустя судьба снова сталкивает их вместе, заставляя задуматься: а не рано ли они тогда опустили руки? «Французская рапсодия» – яркая и остроумная сатира на «общество спектакля».
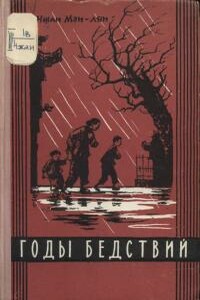
Действие повести происходит в период 2-й гражданской войны в Китае 1927-1936 гг. и нашествия японцев.
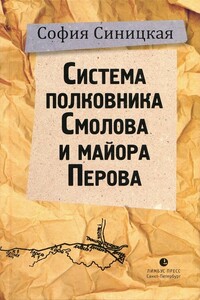
УДК 821.161.1-31 ББК 84 (2Рос-Рус)6 КТК 610 С38 Синицкая С. Система полковника Смолова и майора Перова. Гриша Недоквасов : повести. — СПб. : Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2020. — 249 с. В новую книгу лауреата премии им. Н. В. Гоголя Софии Синицкой вошли две повести — «Система полковника Смолова и майора Перова» и «Гриша Недоквасов». Первая рассказывает о жизни и смерти ленинградской семьи Цветковых, которым невероятным образом выпало пережить войну дважды. Вторая — история актёра и кукольного мастера Недоквасова, обвинённого в причастности к убийству Кирова и сосланного в Печорлаг вместе с куклой Петрушкой, где он показывает представления маленьким врагам народа. Изящное, а порой и чудесное смешение трагизма и фантасмагории, в результате которого злодей может обернуться героем, а обыденность — мрачной сказкой, вкупе с непривычной, но стилистически точной манерой повествования делает эти истории непредсказуемыми, яркими и убедительными в своей необычайности. ISBN 978-5-8370-0748-4 © София Синицкая, 2019 © ООО «Издательство К.
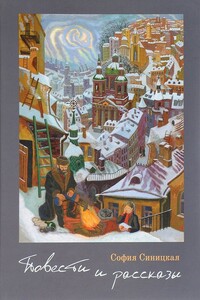
УДК 821.161.1-3 ББК 84(2рос=Рус)6-4 С38 Синицкая, София Повести и рассказы / София Синицкая ; худ. Марианна Александрова. — СПб. : «Реноме», 2016. — 360 с. : ил. ISBN 978-5-91918-744-8 В книге собраны повести и рассказы писательницы и литературоведа Софии Синицкой. Иллюстрации выполнены петербургской школьницей Марианной Александровой. Для старшего школьного возраста. На обложке: «Разговор с Богом» Ильи Андрецова © С. В. Синицкая, 2016 © М. Д. Александрова, иллюстрации, 2016 © Оформление.
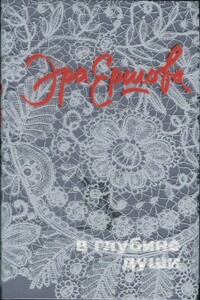
Вплоть до окончания войны юная Лизхен, работавшая на почте, спасала односельчан от самих себя — уничтожала доносы. Кто-то жаловался на неуплату налогов, кто-то — на неблагожелательные высказывания в адрес властей. Дядя Пауль доносил полиции о том, что в соседнем доме вдова прячет умственно отсталого сына, хотя по законам рейха все идиоты должны подлежать уничтожению. Под мельницей образовалось целое кладбище конвертов. Для чего люди делали это? Никто не требовал такой животной покорности системе, особенно здесь, в глуши.