Пробел - [10]
На столе, под рукой, лежит девственно чистый лист бумаги, самый обычный, лишенный тех черт, что отделяют предмет от рутинной заурядности, делают его молчаливым, недоступным, угрожающим. Здесь белая страница не столько вещь (тревожащая), сколько знак. Я не исторгнут (из письма), а скорее намечен (пробелом, пустотой) и послан в реальность, которую пока не воспринимаю, хотя с самого начала испытываю ее абсолютное наличие, — так что сей приготовленный для текста лист ускользает от своего предназначения и становится отражением, по моей мерке, того, что в данный момент держится позади меня и как раз таки представляет опасность. Вот так, не меняя своих чувственных черт, вещь преподносит новый, совершенно иной смысл, и действием его не изменишь. И никакому тщанию воли уже не отклонить обычную прежде вещь, чей смысл мутировал, к ее первооснове. Белизна бумаги, ничуть не раня глаз, вытравливает из меня дух простого поденщика, ремесленника пера, присущий (по мере возможностей) мне до сих пор, — и в то же время служит образом некоего высшего отречения, перед лицом которого я, чьи потребности ограничены, а желания скромны, вижу, что переполнен излишествами и распираем собственной несостоятельностью.
Эта белая страница, по которой я своим торопливым почерком собирался ринуться в бегство, вот она замирает, вот утверждается сама по себе, вне меня, вне досягаемости, и сигнализирует банальным фактом того, что она здесь, замерла в пустоте, о полной тщете моего проекта. Внезапно я понимаю, что могу сделать нечто иное, а не рассказывать истории, и если намерен встретиться с собой лицом к лицу, то уж точно не множась в фантомах исторических или легендарных жизней. Писать не должно означать рассказывать. Не знаю, каким может быть смысл письма, буде такой имеется, но знаю, что со своим ворохом заметок, ссылок, исторических данных и психологических портретов выбрал неверную дорогу. Внезапно подчиняясь радикальной белизне пустой страницы, я замечаю, что, прежде чем думать о письме, мне, как подсказывает присутствующее здесь, в сей дотекстовой девственности отсутствие, нужно ступить на другой путь — тот, что отвергает самое побуждение к попранию чистоты. В попытке определиться мне следует прибегнуть не кУбертино да Казале и не к какому-то иному герою духа, обратиться не к письму, а молчаливо, в тайне, с поклонением приблизиться к ядрышку белизны на дне вещей, стремясь, в пустоте все более пустого сердца, с ним отождествиться, вобрать его в себя, с ним сочетаться — стать наконец той белизной, из которой я вышел и которая меня ждет.
Долго я так и оставался, разглядывая белую страницу, которая, так сказать, заняла весь мой письменный стол. Замерев поначалу над ней в напряжении, с желанием овладеть ею пером или карандашом, я постепенно успокоился. Мало-помалу я пришел к выводу, что с тех пор, как из моей памяти стерлись воспоминания о счастье, на мою долю не выпадало лучшего мгновения. Ибо именно в этой точке времени уравновесились внешнее и внутреннее, вещи вне меня и мое самое глубинное желание: желание оказаться лицом к лицу с самим собой, как у основания стены, которую нужно наконец преодолеть — или умереть перед ней. Я рассматривал незапятнанную страницу и видел в ней своего рода программу жизни, для воплощения которой требовалась бесконечная настойчивость, или же модель существования, с которой в усвоенной мною культуре ничто не могло сравниться — ибо все прочитанное мною в «Патрологии» Миня о духовности пустынников и теологии ограничения, об уходе в себя, отсутствии и пустоте, ссылалось на Бога христианского откровения, чьи тройственные ипостаси наполняли присутствием и смыслом все то, что, впрочем, описывалось как праздность желания и пустотность бытия — так что отсутствие смысла оказывалось просто иллюзией, связанной с греховным положением человека, каковое, конечно же, необходимо углубить до самого конца (если только это возможно — в чем я в тот момент сомневался), чтобы, обратив опыт, возобновить отношения с божественной трансцендентностью и Благодатью, коей та неминуемо наделяет достаточно прозорливого и смиренного грешника. Таким образом, я видел себя на перекрестке и в точке разрыва, где расходились христианские писания с их доктриной спасения и чистый и неоспоримый опыт пустоты, предлагаемый белизной простертой у меня на рабочем столе бумаги. Вот почему я жадно вглядывался в сей внезапно дарованный мне фрагмент зеркала и, подобно множеству других, стремившихся через фрагменты к зрелищу целого, продвигался в простом и надежном труде, внезапно повторенном собою в себе самом, к образу своей судьбы, пребывающему в согласии с моим молчанием, одиночеством и нуждой.
Быть может, я долго так и оставался, не двигаясь, едва дыша, пристально вглядываясь, ожидая без ожидания, вопрошая без всякой мысли и получая, хотя ничего не просил. Час оказался просто безбрежен. Книга закончилась полной незавершенностью. Ничто более не докучало. Несколько осознанных планов, сложившихся было вокруг работы над этим сочинением, зияли своим внезапно пресеченным чванством. Я был здесь ни при чем — меня уведомляла о том белая страница: я был здесь как бы ничем. Все продолжалось ровно столько, сколько нужно. То, что происходило, следовало закону духовного роста, а он не имел ничего общего с конвульсиями истории. Приятие — вот все, что мне оставалось.
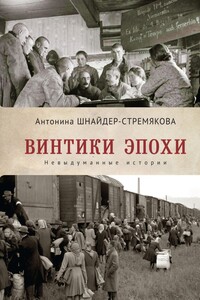
Повесть «Винтики эпохи» дала название всей многожанровой книге. Автор вместил в нее правду нескольких поколений (детей войны и их отцов), что росли, мужали, верили, любили, растили детей, трудились для блага семьи и страны, не предполагая, что в какой-то момент их великая и самая большая страна может исчезнуть с карты Земли.

Ида Финк родилась в 1921 г. в Збараже, провинциальном городе на восточной окраине Польши (ныне Украина). В 1942 г. бежала вместе с сестрой из гетто и скрывалась до конца войны. С 1957 г. до смерти (2011) жила в Израиле. Публиковаться начала только в 1971 г. Единственный автор, пишущий не на иврите, удостоенный Государственной премии Израиля в области литературы (2008). Вся ее лаконичная, полностью лишенная как пафоса, так и демонстративного изображения жестокости, проза связана с темой Холокоста. Собранные в книге «Уплывающий сад» короткие истории так или иначе отсылают к рассказу, который дал имя всему сборнику: пропасти между эпохой до Холокоста и последующей историей человечества и конкретных людей.
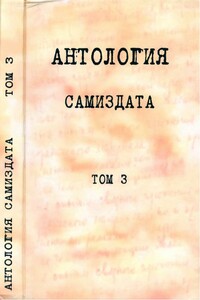
«Антология самиздата» открывает перед читателями ту часть нашего прошлого, которая никогда не была достоянием официальной истории. Тем не менее, в среде неофициальной культуры, порождением которой был Самиздат, выкристаллизовались идеи, оказавшие колоссальное влияние на ход истории, прежде всего, советской и постсоветской. Молодому поколению почти не известно происхождение современных идеологий и современной политической системы России. «Антология самиздата» позволяет в значительной мере заполнить этот пробел. В «Антологии» собраны наиболее представительные произведения, ходившие в Самиздате в 50 — 80-е годы, повлиявшие на умонастроения советской интеллигенции.

"... У меня есть собака, а значит у меня есть кусочек души. И когда мне бывает грустно, а знаешь ли ты, что значит собака, когда тебе грустно? Так вот, когда мне бывает грустно я говорю ей :' Собака, а хочешь я буду твоей собакой?" ..." Много-много лет назад я где-то прочла этот перевод чьего то стихотворения и запомнила его на всю жизнь. Так вышло, что это стало девизом моей жизни...

1995-й, Гавайи. Отправившись с родителями кататься на яхте, семилетний Ноа Флорес падает за борт. Когда поверхность воды вспенивается от акульих плавников, все замирают от ужаса — малыш обречен. Но происходит чудо — одна из акул, осторожно держа Ноа в пасти, доставляет его к борту судна. Эта история становится семейной легендой. Семья Ноа, пострадавшая, как и многие жители островов, от краха сахарно-тростниковой промышленности, сочла странное происшествие знаком благосклонности гавайских богов. А позже, когда у мальчика проявились особые способности, родные окончательно в этом уверились.

Самобытный, ироничный и до слез смешной сборник рассказывает истории из жизни самой обычной героини наших дней. Робкая и смышленая Танюша, юная и наивная Танечка, взрослая, но все еще познающая действительность Татьяна и непосредственная, любопытная Таня попадают в комичные переделки. Они успешно выпутываются из неурядиц и казусов (иногда – с большим трудом), пробуют новое и совсем не боятся быть «ненормальными». Мир – такой непостоянный, и все в нем меняется стремительно, но Таня уверена в одном: быть смешной – не стыдно.