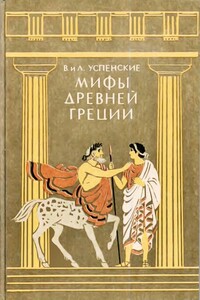А тут ветер поднялся. Заскрипел висячий мостик, закачался.
Закружилась у меня голова, и захотелось подпрыгнуть, и я вдруг… подпрыгнул, и показалось — взлетел.
Далёкие я увидел поля, великие леса за полями, и речка Истра разрезала леса и поля излучинами-полумесяцами, чертила по земле быстрые узоры. Захотелось по узорам полететь к великим лесам, но тут послышалось:
— Эй! (По мостику шёл какой-то старик с палкой в руке.) Ты чего тут прыгаешь?
— Да летаю.
— Тоже мне жаворонок! Совсем наш мостик расшатали, того гляди, оборвётся. Иди-иди, на берегу прыгай!
И он погрозился палкой.
Сошёл я с мостика на берег.
«Ладно, — думал я. — Не всё мне прыгать да летать. Надо и приземляться иногда».
В тот день я долго гулял по берегу Истры и вспоминал зачем-то своих друзей. Вспомнил и Лёву, и Наташу, вспомнил маму и брата Борю, а ещё вспомнил Орехьевну.
Приехал домой, на столе — письмо. Орехьевна мне пишет:
«Я бы к тебе прилетела на крылышках. Да нет крыльев у меня».
— Герасим Грачевник грачей пригнал! — закричали на улице соседские ребята, и я выскочил на крыльцо — поглядеть, в чём дело.
По дороге ходили грачи — прилетели наконец.
А никакого Герасима видно не было. У нас и в деревне-то нет ни одного Герасима.
Это день сегодняшний так назывался — Герасим Грачевник. Не какой-нибудь понедельник или четверг, а — Герасим. Весь день — и раннее утро, и будущий вечер, и небо, и лужи на дорогах, и подтаявший снег, — весь день был Герасим. А взошедшее солнце было его головой.
Грачи походили по дороге и полетели к берёзам, где остались у них прошлогодние гнёзда.
Не знаю: почему это грачи так любят берёзы? Наверное, тянет их, чёрных, светлая кора. И ведь не только грачей тянет к берёзам. А иволги-то? А чижи? Да и меня-то самого тоже тянет к берёзам.
Заведу-ка я себе ручного грача и назову его — Герасим.
В тумане ольховый лес.
Глухо в лесу, тихо.
А я бегу — боюсь опоздать на утренний клёв.
«Тии-вить, — слышится слева, — тии-вить».
«Почин! — думаю я на бегу. — Ну сейчас начнётся!»
«Пуль,
пуль,
пуль,
пуль,
пуль!»
Пулькает! Здорово пулькает!
«Клы,
клы,
клы,
клы,
клы!»
Клыкает! Во как клыкает!
«Плен,
плен,
плен,
плен,
плен!»
Пленкает! Неплохо пленкает! Умеет!
Некогда мне, некогда, я бегу — боюсь опоздать на утренний клёв.
Когда я пробегаю мимо певца, который спрятался в средине ольхи, он замолкает на миг, но тут же начинает разгоняться: «Тии-вить».
И летят мне вдогонку соловьиные колена и кольца:
пульканье,
клыканье,
пленьканье,
дробь,
раскат,
колокольца,
летний громок
и юлиная стукотня.
А я бегу, бегу — не опоздать бы на утренний клёв.
А впереди уж встречает новый соловей.
Быстро приближаюсь к нему и слышу затихающего певца сзади и нового, свежего, сочного, — впереди.
Да что же это — голова кругом!
Впереди — пульканье.
Сзади — клыканье!
Впереди — дробь.
Сзади — раскат!
А где-то там, совсем-совсем впереди, — третий соловей, до которого я ещё не добежал.
«Чулки! Чулки! — поёт он. — Где вы? Где вы?»
Пока доберусь до озера, соловьи передают меня из рук в руки.
А черёмуха-то цветёт, осыпается на чёрную дорогу, ворочаются в озере язи, бьют в прибрежной траве зеленовато-рябые щуки.
Вытаскиваю из кустов лодку и — быстро к шестам, вколоченным в дно озера. А новый певец, приозёрный уже
пулькает-булькает,
клыкает-клокает,
пленькает-плинькает
да вдруг как рассыплет по поверхности озера сразу с полтысячи бус! Так холодом и ошпарит.
А я-то леща тащу.
Боком-боком-боком, разинув розовый рот, выпучив придонный глаз, идёт лещище к лодке.
А за спиною — снова разом по воде с полтысячи бус!
Ну и соловей!
Я зову его Хрустальный Горошек.
ПОЗДНИМ ВЕЧЕРОМ РАННЕЙ ВЕСНОЙ
Поздним вечером ранней весной я шёл по дороге.
«Поздним вечером ранней весной», — складно сказано, да больно уж красиво…
А дело, правда, было поздним вечером ранней весной.
Весна была ранняя, соловьи ещё не прилетели, а вечер — поздний.
Так что ж было-то поздним вечером ранней весной?
А ничего особенного не было. Я шёл по дороге.
А вокруг меня — и на дороге, и на поле, в каждом овраге — светился месяц.
Иногда я наступал на него — и месяц расплывался вокруг моей ноги. Я вынимал ногу из лужи — на сапоге блестели следы месяца.
Капли месяца, как очень жидкое и какое-то северное масло, стекали с моего сапога.
Так и шёл я по дороге, по которой ходил и ясным днём, и тусклым утром, и — так уж получилось — поздним вечером ранней весной.
По влажной песчаной тропе ползёт Медведица кая.
Утром, ещё до дождя, здесь проходили лоси — сохатый о пяти отростках да лосиха с лосёнком.
Потом пересек тропу одинокий и чёрный вепрь. И сейчас ещё слышно, как он ворочается в овраге, в сухих тростниках.
Не слушает вепря Медведица и не думает о лосях, которые прошли утром. Она ползёт медленно и упорно и только ёжится, если падает на неё с неба запоздалая капля дождя.
Медведица кая и не смотрит в небо. Потом, когда она станет бабочкой, ещё насмотрится, налетается. А сейчас ей надо ползти.
Тихо в лесу.
С веток падают тяжёлые капли.
Сладкий запах таволги вместе с туманом стелется над болотом.
По влажной песчаной тропе ползёт мохнатая гусеница Медведица кая.