Призовая лошадь - [8]
Чилиец в Сан-Франциско
К началу настоящей истории я работал мойщиком посуды в одном из ресторанов города Сан-Франциско. Не спрашивайте, как дошел я до жизни такой. Должность посудника давала мне еду и кое-какую мелочишку на все остальное. Занятие вполне достойное. Достойное собаки. В ту пору я еще наивно готовил себя для деятельности более возвышенной, деятельности, которая, сказать правду, представлялась мне весьма и весьма туманной. Мытье посуды устраивало меня тем, что давало время поразмыслить и поблуждать в мечтах по неведомым далям. С другой стороны, нехитрое это занятие приучало к житейскому стоицизму и чувствительно охлаждало необузданные мечтания и фанаберии, с которыми я прибыл из Чили. Вот попробуйте-ка в течение битых четырех часов отмывать соус, которым в дешевеньких здешних ресторанах пропитывают картофельное пюре, и если по истечении этого времени вид кофейно-зеленой массы не вывернет вас наизнанку, — значит, вы герой или великомученик. Словом, существо исключительное. Меня лично один вид картофельного пюре бросает в дрожь; соус вызывает головокружение, а если поднести к моему рту ложку этой адской смеси, то я и волком завою.
От такого подвижничества меня спас один соотечественник, встретившийся мне по чистой случайности в ресторане. Любопытно здесь то, что я и рта не успел раскрыть, как Идальго мигом распознал во мне чилийца! Возможно, виной тому шестое чувство, которое развивается в нас за границей и позволяет узнать своего на расстоянии; а может, внешность моя помогла, ибо в ней есть и в самом деле что-то очень чилийское, прямо-таки намалеванное на моей физиономии. Я из тех «проспиртованных» чилийцев светло-каштановой масти, кареглазых, с уймой тонких кровяных прожилок на щеках и носу. Кроме того, я отпустил усы, в которых можно отыскать волоски любого цвета и оттенка, хотя и с преобладанием рыжих. Словом, я типичный выходец из центрального Чили, большеротый, толстогубый, смешливый. Пусть обрядят меня эскимосом, и все равно из меня будет переть чилиец. Видно, оттого-то Идальго меня и опознал. Я работал у моечной стойки, когда он подошел ко мне и попросил спичку. Попросил по-испански. Я ничуть не удивился, ибо уже привык к мексиканцам и баскам с Бродвея. Возвращая коробок, он спросил:
— Вы чилиец?
— Да, дружище, — ответил я.
— Здорово! Значит, мы земляки, — сказал он. — Кто бы мог подумать?
— Я недавно в Сан-Франциско. А вы, стало быть, тоже чилиец?
— Стало быть, да. Я с севера. Родился в Антофагасте, но о тех местах лучше не спрашивайте, жил я по большей части в Сантьяго.
С виду Идальго был темнокож, чуть побелевший от длительного проживания в Соединенных Штатах; волосы у него были черные, прямые, зализанные на висках и затылке; рот маленький, губы тонкие, приоткрытые не то в улыбке, не то в готовой сорваться угрозе; глаза темные, взгляд презрительный. Безобразный шрам рассекал левую щеку. Поножовщина? Драка? Во всем облике нового моего знакомца было что-то униженное, робкое и в то же время дерзкое и насмешливое по отношению ко всему и ко всем. Росточка он был куцего. В Чили его посчитали бы за коротышку, здесь же, в Соединенных Штатах, он казался просто пигмеем. В тот день мы с ним долго не расставались. Я рассказал ему обо всех своих мытарствах. Все это он выслушал без особого интереса, но вполне дружески. Сам говорил мало. Поначалу я приписал это его застенчивости. Думал, дескать, человек стыдится своей необразованности, видит во мне собеседника более опытного и подкованного или, быть может, помалкивает, чтобы не выдать деревенского своего происхождения. Вскоре, однако, я понял, что предположения мои ошибочны. Чего-чего, а застенчивости Идальго был лишен начисто. Если когда-то ему и случалось пожить в чилийских низах, то теперь это никак не сказывалось. Помалкивал он просто потому, что не любил болтать впустую. Идальго обращался со словом как с вещами в скупо обставленной квартире: все мигом находило единственно точное, свое место. И потому разговаривать с ним было удивительно просто и удобно. Я заметил, что понравился ему. Нечего и говорить, что я сразу же почувствовал его превосходство. Впрочем, будь я даже семи пядей во лбу, ничтожный мой опыт в этой стране гринго[7] все равно заставил бы меня искать покровительства.
Сидя за столиком напротив окна, он часа два терпеливо ждал, пока я кончу работу, прихлебывая черный кофе и куря сигарету за сигаретой. Время от времени Идальго углублялся в газету, заполненную фотографиями лошадей и жокеев. Что-то сосредоточенно обдумывая, он то отрывался от газеты и устремлял взгляд на прохожих за окном, то снова утыкался в нее, делая красным карандашом пометки возле имен некоторых лошадей и их послужного списка. Он читал «Рейсинг форм»

История эта приключилась в Южной Африке, куда два приятеля — Том Донахью и Джек Тернболл, приехали в поисках удачи и успеха. Перепробовали они много занятий , и вот однажды в ненастную ночь они узнали о долине Сэсасса, которая пользовалась дурной славой у местных чернокожих жителей.

Пожилые владелицы небольшого коттеджного поселка поблизости от Норвуда были вполне довольны двумя первыми своими арендаторами — и доктор Уокен с двумя дочерьми, и адмирал Денвер с женой и сыном были соседями спокойными, почтенными и благополучными. Но переезд в третий коттедж миссис Уэстмакот, убежденной феминистки и борца за права женщин, всколыхнул спокойствие поселка и подтолкнул многие события, изменившие судьбу почти всех местных жителей.

Книга «Шесть повестей…» вышла в берлинском издательстве «Геликон» в оформлении и с иллюстрациями работы знаменитого Эль Лисицкого, вместе с которым Эренбург тогда выпускал журнал «Вещь». Все «повести» связаны сквозной темой — это русская революция. Отношение критики к этой книге диктовалось их отношением к революции — кошмар, бессмыслица, бред или совсем наоборот — нечто серьезное, всемирное. Любопытно, что критики не придали значения эпиграфу к книге: он был напечатан по-латыни, без перевода. Это строка Овидия из книги «Tristia» («Скорбные элегии»); в переводе она значит: «Для наказания мне этот назначен край».

В книгу вошли повести «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды». Тургенев писал: «Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь». В «Асе» (1858) повествование ведётся от лица анонимного рассказчика, вспоминающего свою молодость и встречу в маленьком городке на берегу Рейна с девушкой Асей. На склоне лет герой понимает, что по-настоящему любил только её. В повести «Первая любовь» (1860) пожилой человек рассказывает о своей юношеской любви. Шестнадцатилетний Владимир прибывает вместе с семьей в загородное поместье, где встречает красивую девушку, двадцатиоднолетнюю Зинаиду, и влюбляется в нее.

Сюжет названного романа — деятельность русской администрации в западном крае… Мы не можем понять только одного: зачем это обличение написано в форме романа? Интереса собственно художественного оно, конечно, не имеет. Оно важно и интересно лишь настолько, насколько содержит в себе действительную правду, так как это в сущности даже не картины нравов, а просто описание целого ряда «преступлений по должности». По- настоящему такое произведение следовало бы писать с документами в руках, а отвечать на него — назначением сенатской ревизии («Неделя» Спб, № 4 от 25 января 1887 г.)
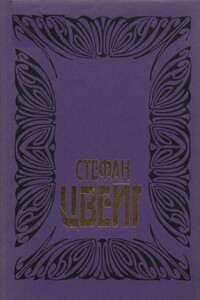
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (18811942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В пятый том Собрания сочинений вошли биографические повести «Борьба с безумием: Гёльдерлин, Клейст Ницше» и «Ромен Роллан. Жизнь и творчество», а также речь к шестидесятилетию Ромена Роллана.