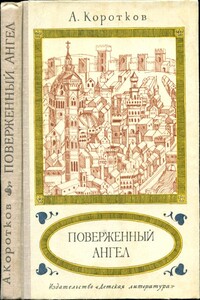Глава 5
Деа продает «Квазимодо»
Художник с севера, «очень, очень богатый», как сказала Селина, часто останавливался у ее стойки, чтобы купить горсть орехов в меду или вкусные пирожные; каждый раз, останавливаясь у стойки, он окидывал взглядом детей, и не одна монетка попала от него Филиппу в обмен на душистую оливковую ветвь или букет фиалок.
Он действительно был художник — Эдуард Эйнсворт, известный в Нью-Йорке; что касается его богатства, то это было лишь предположение Селины, основанное отчасти на том, что Эдуард Эйнсворт — иностранец, главным же образом — что он почти ежедневно покупал цветы. А кто же, кроме богачей, станет это делать?
В этот день Селина в нетерпеливом ожидании увидела его первой, и ей показалось, что художник собирается пройти мимо. Но нет, он остановился, наклонился над стойкой и погрузил лицо в благоухающие цветы.
— Какой аромат! Очарование! — прошептал он.
Затем выбрал ветку оливы и фиалки, не спуская глаз с Филиппа и Деи, устремившей на него большие глаза.
В это время на лице Селины появилась пленительнейшая из ее улыбок, и когда покупатель положил на стол деньги за покупки, она промолвила своим приятным, задушевным голосом:
— Свежие, сударь, свежие! Не возьмете ли и пирожных?
— Непременно. Благодарю вас, — ответил художник, не спуская глаз с детей.
— Если позволите, сударь, я покажу вам прелюбопытную штучку! — И Селина с осторожностью взяла фигурку Квазимодо; Деа побледнела от волнения, а в глазах Филиппа зажглись беспокойные огоньки. Это была минута высшего напряжения.
Художник просиял. Он отложил цветы, сверток с покупками и, взяв статуэтку в руки, почти с благоговением стал внимательно разглядывать ее со всех сторон.
— Кто это сделал? — спросил он, глядя то на одного, то на другого из детей.
— Мой папа́, — ответила Деа, набравшись храбрости.
— Твой папа́? Да он гений! Работа сделана артистически. Как зовут твоего отца, и где он живет?
Деа потупила голову и ничего не отвечала. Художник вопросительно посмотрел на Селину.
— Ее бедный папа́ хворает, — ответила она, многозначительно указав на свой лоб. — Он не желает никого видеть. Она, — и Селина указала на девочку, — никогда не говорит посторонним, где они живут.
— О, я понимаю! — прошептал художник. — Хорошо, дитя мое, — ласково обратился он к Дее. — Не можешь ли ты сказать мне, кого изображает эта фигура?
— Это Квазимодо.
— Именно так! Бесподобно, бесподобно! Но какой странный сюжет! — И снова он вертел статуэтку в руках и рассматривал ее.
— Ты его продаешь? — спросил он наконец.
— О, да, сударь! — с живостью воскликнула Деа. — Если вы только купите его, бедный папа́ так обрадуется; он объявил мне, что я должна продать его сегодня во что бы то ни стало.
— Сколько же ты требуешь за него?
— Папа́ велел продать его за пять долларов. Разве пять долларов много? — смутилась бедная девочка. — Папа́ сказал, что это произведение искусства, но если вы находите, что это очень много…
— Это и есть произведение искусства, — прервал ее художник, засовывая руку в карман и доставая бумажник.
Глаза Деи сверкнули было, но затем наполнились слезами.
— Не можешь ли ты сказать мне, дитя, сколько времени лепил твой отец эту статуэтку? — спросил он, держа бумажник в руках.
— О, долго, сударь! Я не могу сказать в точности, как долго, потому что папа́ работает по ночам, когда я сплю.
— А, он работает по ночам! А ты много продала статуэток?
— Нет, сударь, я уж давно не продавала ни одной.
— Она не продала ни единой штучки с самой масленицы, — вмешался Филипп, весь превратившийся в любопытство. — Один иностранец купил статуэтку, но дал за нее всего три доллара.
— Ты брат ее? — спросил художник, улыбаясь Филиппу.
— О, нет, сударь, мы не родственники, — ответил мальчик. — Она только мой друг. Она маленькая, и я забочусь о ней и стараюсь ей помочь, чем могу…
Говоря это, мальчик поднял на художника глаза, и в их голубой глубине сиял такой мягкий свет, что сердце художника дрогнуло от какого-то смутного нежного воспоминания.
«Как он похож на него, — подумал он, — тот же взгляд, та же улыбка и почти тот же возраст! Я уверен, что и Лауре это бросится в глаза… Надо показать ей его!»
На мгновение он забыл, где находится; воспоминание детства слилось с недавним горем. Босоногий мальчик, срывавший в обмелевшем пруду водяные лилии; мальчик, стоявший возле него и следивший любящим взором за каждым движением его кисти, и мальчик, находившийся сейчас перед ним, — казались ему одним и тем же лицом. Сильное волнение стерло все из памяти художника, и он застыл в безмолвии, устремив глаза на Филиппа. Очнувшись, словно от сна, он заговорил, и в голосе его дрожали новые нежные нотки: