Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века - [81]
Лейбницианское учение объединяло политическую мораль с физико-теологией, находившей в рационально познаваемом тварном мире важнейшее свидетельство о боге, и проецировало этот синтез на Священное Писание. Философам своей утопической Академии Лейбниц ставил в образец Моисея, Иова и Давида, воспевавших в «хвалебных песнях» («Lobgesänge») сотворенные богом «естественные чудеса» («natürlich[e] Wunde[r]»): «wie er dem Meer seine grenzen gesezet, den Himmel gewölbet, über den Wolcken dahehr fahre, seinen Donner erschallen» ([как он поставил пределы морю, возвел небесный свод, держит путь над облаками, как гром его гремит] – Leibniz 1931, 534). Один из первых адептов Лейбница, швейцарский врач и натуралист Иоганн Якоб Шейхцер, чуть не ставший по предстательству своего патрона лейб-медиком Петра I, выпустил в 1730‐х гг. монументальный естественно-научный комментарий к Библии, озаглавив его «Священное естествознание» («Physica Sacra, oder Geheiligte Natur-Wissenschafft», 1731–1735; о Шейхцере см., напр.: Müsch 2000). В качестве пробного камня Шейхцер (чьи труды были известны Ломоносову – см.: Коровин 1961, 220–221) сперва напечатал отдельным изданием комментарий к Книге Иова. В предисловии он пояснял, что эта библейская книга содержит «eine Theologiam revelatam, und naturalem, eine Sittenlehr, eine Natur=Wissenschaft» ([богословие откровенное и естественное, нравоучение и естествознание] – Scheuchzer 1721, без паг.). В познании природы Шейхцер находил «überzeugende Antriebe zu Ausübung unserer Pflichten gegen Gott, gegen dem Nächsten, und gegen uns selbs» ([убедительные доводы к исполнению нашей должности перед богом, перед ближним и перед самим собой] – Ibid., без паг.), а в «целой системе» («ganzes Systema») мироздания, открывавшейся за строками Книги Иова, видел проповедь этических истин, одушевляющих общественный быт:
<…> in der ganzen Natur=Wissenschaft diß die sicherste Wahrheit, daß ein Gott ist. Diese Grund=Wahrheit soll ein Lehrer treiben auf der Canzel, und in besonderem Umgang mit seinen, auch einfältigsten Zuhöreren, der Regent an seinem Richter=Orth, <…> der Vatter in seiner Haußhaltung, der Soldat in seinem Dienst, der Handwerksmann in seiner Werkstatt, der Baur bei seinem Pflug, <…> alle Menschen an allen Orthen, wo sie stehen, gehen, arbeiten.
[<…> во всем естествознании наивернейшая истина есть та, что есть бог. Эту основополагающую истину должен проповедовать наставник на кафедре и в личном обхождении со своими слушателями, даже самыми простыми; правитель на судейском месте <…> отец в домохозяйстве, солдат на службе, ремесленник в мастерской, крестьянин за плугом, <…> все люди во всех местах, где они обретаются, ходят, трудятся.] (Ibid., без паг.)
Работа Шейхцера служит образцом специфической герменевтики, сводящей воедино наблюдаемый мир и Писание. В акте такого толкования корпус естественно-научного знания отождествлялся с библейским текстом, назиданием par excellence. Возобновляя старинный топос, Ломоносов писал в «Прибавлении» к «Явлению Венеры на Солнце» (1761), что «Создатель дал роду человеческому две книги»: «видимый сей мир» и Священное Писание (Ломоносов, IV, 375). По мнению М. Левитта, метафора книги природы обозначала непосредственную доступность истины «непредубежденному наблюдателю» и его телесным чувствам, в первую очередь зрению (Levitt 2011, 157). В то же время параллель с Писанием наделяла мироздание, которое открывалось благочестивому взгляду, свойствами учительного текста, встроенного в систему культурных кодов и требовавшего герменевтических усилий (см.: Blumenberg 1986; Фуко 1994). Одновременно разграничивая и сближая полномочия богословия и естественных наук, Ломоносов ссылался на отцов церкви, которые «познание натуры с верою содружить старались, соединяя его снискание с богодохновенными размышлениями в однех книгах» (Ломоносов, IV, 374). «Физики, математики, астрономы», с одной стороны, и «пророки, апостолы и церковные учители» – с другой, равно именуются здесь «истолкователями и изъяснителями» божественных книг. Саму операцию толкования текста Ломоносов объяснял на примере богословской экзегезы:
Толкователи и проповедники священного писания показывают путь к добродетели, представляют награждение праведным, наказание законопреступным и благополучие жития, с волею божиею согласного (Там же, 375).
И Писание, и понятая по его образцу книга природы оказываются нравоучительными сочинениями, дисциплинирующими читателя при помощи богословского понятия «воли божией» и более внятных мирянам представлений о «награждении» и «наказании». Эту идею назидательной текстуальности Ломоносов подкрепляет авторитетным примером «Бесед на Шестоднев» Василия Великого – богословского комментария к библейской истории творения, где тварный мир по образцу священного текста служил уроком покорности и долга: «Аще сим научимся, себе самыя познаем, бога познаем, создавшему поклонимся, владыце поработаем» (Там же, 376).
Такой взгляд на книгу природы с самого начала сопутствовал импорту «новой науки» в Россию и осуществлялся на практике в научно-популярных изданиях. Первое же издание такого рода – вышедший в 1717 г. с личного одобрения Петра I перевод «Книги мирозрения…» Х. Гюйгенса – открывалось предисловием Я. Брюса, обосновывавшим при помощи ссылок на Священное Писание нравоучительную пользу астрономических сведений:
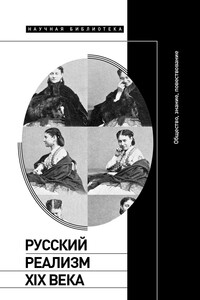
Научная дискуссия о русском реализме, скомпрометированная советским литературоведением, прервалась в постсоветскую эпоху. В результате модернизация научного языка и адаптация новых академических трендов не затронули историю русской литературы XIX века. Авторы сборника, составленного по следам трех международных конференций, пытаются ответить на вопросы: как можно изучать реализм сегодня? Чем русские жанровые модели отличались от западноевропейских? Как наука и политэкономия влияли на прозу русских классиков? Почему, при всей радикальности взглядов на «женский вопрос», роль женщин-писательниц в развитии русского реализма оставалась весьма ограниченной? Возобновляя дискуссию о русском реализме как важнейшей «моделирующей системе» определенного этапа модерности, авторы рассматривают его сквозь призму социального воображаемого, экономики, эпистемологии XIX века и теории мимесиса, тем самым предлагая читателю широкий диапазон современных научных подходов к проблеме.

Боевая работа советских подводников в годы Второй мировой войны до сих пор остается одной из самых спорных и мифологизированных страниц отечественной истории. Если прежде, при советской власти, подводных асов Красного флота превозносили до небес, приписывая им невероятные подвиги и огромный урон, нанесенный противнику, то в последние два десятилетия парадные советские мифы сменились грязными антисоветскими, причем подводников ославили едва ли не больше всех: дескать, никаких подвигов они не совершали, практически всю войну простояли на базах, а на охоту вышли лишь в последние месяцы боевых действий, предпочитая топить корабли с беженцами… Данная книга не имеет ничего общего с идеологическими дрязгами и дешевой пропагандой.

Автор монографии — член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР. В книге рассказывается о главных событиях и фактах японской истории второй половины XVI века, имевших значение переломных для этой страны. Автор прослеживает основные этапы жизни и деятельности правителя и выдающегося полководца средневековой Японии Тоётоми Хидэёси, анализирует сложный и противоречивый характер этой незаурядной личности, его взаимоотношения с окружающими, причины его побед и поражений. Книга повествует о феодальных войнах и народных движениях, рисует политические портреты крупнейших исторических личностей той эпохи, описывает нравы и обычаи японцев того времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В настоящей книге чешский историк Йосеф Мацек обращается к одной из наиболее героических страниц истории чешского народа — к периоду гуситского революционного движения., В течение пятнадцати лет чешский народ — крестьяне, городская беднота, массы ремесленников, к которым примкнула часть рыцарства, громил армии крестоносцев, собравшихся с различных концов Европы, чтобы подавить вспыхнувшее в Чехии революционное движение. Мужественная борьба чешского народа в XV веке всколыхнула всю Европу, вызвала отклики в различных концах ее, потребовала предельного напряжения сил европейской реакции, которой так и не удалось покорить чехов силой оружия. Этим периодом своей истории чешский народ гордится по праву.

Имя автора «Рассказы о старых книгах» давно знакомо книговедам и книголюбам страны. У многих библиофилов хранятся в альбомах и папках многочисленные вырезки статей из журналов и газет, в которых А. И. Анушкин рассказывал о редких изданиях, о неожиданных находках в течение своего многолетнего путешествия по просторам страны Библиофилии. А у немногих счастливцев стоит на книжной полке рядом с работами Шилова, Мартынова, Беркова, Смирнова-Сокольского, Уткова, Осетрова, Ласунского и небольшая книжечка Анушкина, выпущенная впервые шесть лет тому назад симферопольским издательством «Таврия».

В интересной книге М. Брикнера собраны краткие сведения об умирающем и воскресающем спасителе в восточных религиях (Вавилон, Финикия, М. Азия, Греция, Египет, Персия). Брикнер выясняет отношение восточных религий к христианству, проводит аналогии между древними религиями и христианством. Из данных взятых им из истории религий, Брикнер делает соответствующие выводы, что понятие умирающего и воскресающего мессии существовало в восточных религиях задолго до возникновения христианства.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.