Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века - [43]
Обращенное к нему требование «знать грамоте» принадлежит вполне определенному идейному контексту. «Лексикон» Татищева, ожидавший печати при Академии в те же годы, когда сочинялись и издавались «Две эпистолы», в двух соседних статьях давал почти тождественные дефиниции «грамоты» и «грамматики», которая
<…> представляет правила не токмо другого языка скоро и правильно научиться, но и свои совершенно разуметь и правильно писать, еже особливо в делах, разсуждения остраго подлежащих, яко в законех, указех или определениях (Татищев 1979, 246).
Практический вопрос вразумительности государственных актов, по всей видимости, был фоном для опытов языковой нормализации. В 1736 г. Татищев отозвался на «Речь… о чистоте российского языка» Тредиаковского длинным письмом, где обосновывал потребность в «исправлении языка» и хвалил начало «столь нуждного и чрез много лет желаемого дела». Вопрос о языке Татищев связывал с проблемой ясности законов, над которой, по его мнению, власть должна работать вместе с литературой:
<…> чужестранных слов наиболее самохвальные и никакого языка не знающие секретари и подьячие мешают, которые глупость крайную за великой себе разум почитают и, чем стыдиться надобно, тем хвастают. И сие мнится мне, хотя не вскоре, но исправить удобно в канцеляриях указом, а во употреблении народном – общим представлением и пристойными сатиры или сложенными комедиами и вымышленными разговорами, подобием спектатора. <…>
Главное и нужнейшее есть дело всякому человеку закон божий и гражданский разуметь, дабы всяк оные хранить мог. <…> надобно, чтоб закон просто и внятно таким языком написан был, которым подзаконные говорят, чтоб и простейшей человек силу закона и волю законодавца правильно разуметь мог. <…> (Татищев 1990, 224).
Внятность закона представлялась важнейшим условием правильной работы всего государственного механизма (ср.: Фуко 1999, 139–140). Описывая утопическое «счастливое общество», Сумароков не забыл упомянуть, что «в Государственном совете и во всех судебных местах <…> писцы их пишут очень коротко и ясно» (Сумароков 1787, VI, 366). Ясность в сообщении власти и подданных должна была обеспечиваться не только стилем законодателя, но и распространяющейся грамотностью. О «счастливом обществе» Сумароков писал: «Книга узаконений их не больше нашего Календаря, и у всех выучена наизусть, а грамоте тамо все знают» (Там же, 365). В «Слове на день коронования Екатерины II» Сумароков вменял эту утопическую программу новой императрице и возвращался к положениям «Эпистолы I»:
<…> повели <….> основати училищи готовящимся исправити и наблюдати, предприятыя премудростию Твоею законы! Повели перед писцами разогнути книгу естественныя грамматики, начало нашего пред животными преимущества, которыя многия наши писцы и по имени не знают! Повели им научиться изображати дела ясно, мыслить обстоятельно и порядочно, дабы знало общество, что написано; ибо без того и те могут противузаконствовать, которыя Монаршу волю всею силою исполняти устремляются <…> (Там же, II, 235–236).
Политико-административный идеал прозрачного делопроизводства и незамутненного сообщения между верховной властью и подданными стоял за сатирическим осмеянием подьячих, к которому Сумароков многократно возвращался. В статье 1759 г. «О копистах» (которую Панин читал юному Павлу) с подьячим связывалось одновременно негодное исполнение служебных обязанностей и недолжный уровень образования, грамоты: «Подьячий то[т], кто писати правильно не умеет и берет за плутни Акциденцию [взятки]» (Там же, VI, 374).
Двойному осмеянию подьячих соответствовал двойной императив нового политического образования, увязывавший грамоту со знанием и пониманием законов. Как уже говорилось, юриспруденция входила в программу Сухопутного корпуса. В 1748 г., согласно официальному рапорту, около сорока кадет обучались естественному праву, «юс натуре» (Гусарова 2007, 56; см. также: Петрухинцев 2007, 133–134, 141). Юсупов предполагал отводить «несколько часов на политику, естественное и гражданское право», а позднее наставлять кадет «в римском праве, публичном и феодальном» (Долгова 2007, 80). Татищев писал в «Разговоре двух приятелей»:
Законов своего государства хотя всякому подзаконному учиться надобно, но шляхетству есть необходимая нужда. Первое, понеже шляхтич всякой по природе судия над своими холопи, рабами и крестьяны, а потом может и по заслуге чин судии нести яко в войске, тако и в гражданстве. <…> Правда, что судии законы пред собою имеют, да все ль они сущую силу и волю законодавца разумеют, в оном великое сумнительство; ибо многие приклады того видим, что, кроме коварства или пристрастия, не разумея силы закона, противно истинны решат которые по законам нередко перерешивают. <…> И тако, неученой судья будет подобен безразумной машине, которая ничего собою в себе исправить не может и за неудобностию к надзиранию устроившаго часто вместо пользы вред приносит (Татищев 1979, 128–129).
Неисправность «неученого судьи» происходит от его неспособности понять написанное. В «Сатире II» Кантемира, друга и единомышленника Татищева, невежество нерадивого дворянина «в знаниях, приличных судейскому чину» метафорически сближается с плохим знанием собственного языка:
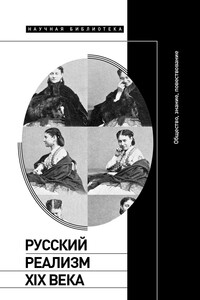
Научная дискуссия о русском реализме, скомпрометированная советским литературоведением, прервалась в постсоветскую эпоху. В результате модернизация научного языка и адаптация новых академических трендов не затронули историю русской литературы XIX века. Авторы сборника, составленного по следам трех международных конференций, пытаются ответить на вопросы: как можно изучать реализм сегодня? Чем русские жанровые модели отличались от западноевропейских? Как наука и политэкономия влияли на прозу русских классиков? Почему, при всей радикальности взглядов на «женский вопрос», роль женщин-писательниц в развитии русского реализма оставалась весьма ограниченной? Возобновляя дискуссию о русском реализме как важнейшей «моделирующей системе» определенного этапа модерности, авторы рассматривают его сквозь призму социального воображаемого, экономики, эпистемологии XIX века и теории мимесиса, тем самым предлагая читателю широкий диапазон современных научных подходов к проблеме.

Автор монографии — член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР. В книге рассказывается о главных событиях и фактах японской истории второй половины XVI века, имевших значение переломных для этой страны. Автор прослеживает основные этапы жизни и деятельности правителя и выдающегося полководца средневековой Японии Тоётоми Хидэёси, анализирует сложный и противоречивый характер этой незаурядной личности, его взаимоотношения с окружающими, причины его побед и поражений. Книга повествует о феодальных войнах и народных движениях, рисует политические портреты крупнейших исторических личностей той эпохи, описывает нравы и обычаи японцев того времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В настоящей книге чешский историк Йосеф Мацек обращается к одной из наиболее героических страниц истории чешского народа — к периоду гуситского революционного движения., В течение пятнадцати лет чешский народ — крестьяне, городская беднота, массы ремесленников, к которым примкнула часть рыцарства, громил армии крестоносцев, собравшихся с различных концов Европы, чтобы подавить вспыхнувшее в Чехии революционное движение. Мужественная борьба чешского народа в XV веке всколыхнула всю Европу, вызвала отклики в различных концах ее, потребовала предельного напряжения сил европейской реакции, которой так и не удалось покорить чехов силой оружия. Этим периодом своей истории чешский народ гордится по праву.

Имя автора «Рассказы о старых книгах» давно знакомо книговедам и книголюбам страны. У многих библиофилов хранятся в альбомах и папках многочисленные вырезки статей из журналов и газет, в которых А. И. Анушкин рассказывал о редких изданиях, о неожиданных находках в течение своего многолетнего путешествия по просторам страны Библиофилии. А у немногих счастливцев стоит на книжной полке рядом с работами Шилова, Мартынова, Беркова, Смирнова-Сокольского, Уткова, Осетрова, Ласунского и небольшая книжечка Анушкина, выпущенная впервые шесть лет тому назад симферопольским издательством «Таврия».
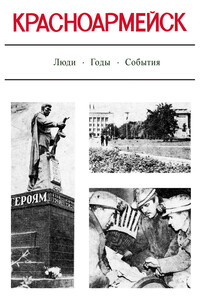
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В интересной книге М. Брикнера собраны краткие сведения об умирающем и воскресающем спасителе в восточных религиях (Вавилон, Финикия, М. Азия, Греция, Египет, Персия). Брикнер выясняет отношение восточных религий к христианству, проводит аналогии между древними религиями и христианством. Из данных взятых им из истории религий, Брикнер делает соответствующие выводы, что понятие умирающего и воскресающего мессии существовало в восточных религиях задолго до возникновения христианства.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.