Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века - [136]
Рекомендации о применении церковнославянской лексики вписаны здесь в многосоставную картину отношений монархии, церкви и светской словесности. Устойчивость славянского богослужения выступает моделью для имперской вечности, создаваемой усилиями светских авторов, «которые к прославлению отечества природным языком усердствуют». В ломоносовской истории языка обнаруживаются, таким образом, очертания имперской секуляризации[24].
«Предисловие о пользе книг церковных» вписано в обширную традицию рассуждений, устанавливавших прямую и обоюдную связь между государственностью и языком, средоточием национальной культуры (см., напр.: Huber 1984, 248–253). Такой взгляд был сформулирован, в частности, в работах Лейбница «Необязательные размышления касательно использования и усовершенствования немецкого языка» («Unvorgreifliche Gedanken, betreffend die Ausübung und Verbesserung der deutschen Sprache», 1697) и «Воззвание к немцам, дабы лучше упражнять свой разум и язык» («Ermahnung an die Teutsche, ihren Verstand und Sprache beßer zu üben…», 1682–1683; о немецких истоках лингвистической рефлексии «Предисловия…» см.: Keipert 1991, 86–89; Кайперт 1995, 32–34). Оба этих сочинения Лейбница стояли в прямой связи с его проектами немецкой академии. Первое из этих было опубликовано в 1717 г. и в 1732 г. перепечатано Готшедом в хорошо известном Ломоносову журнале «Beiträge zur critischen Historie der deutschen Sprache» (см.: Leibniz 1983, 79, 123). В обеих статьях успехи немецкого языка увязываются с политическим и религиозным престижем Священной Римской империи. В «Воззвании…» читаем:
Die Mayestät unsers Kaysers und der teutschen Nation hoheit wird von allen Völkern annoch erkennet <…> Er ist das weltliche Haupt der Christenheit, und der allgemeinen Kirche Vorsteher. <…> Gott werde einen Weg zu unser Wohlfart finden, und dieses Reich, so der Christenheit Hauptfeste ist, gnädiglich erhalten <…> Ich kan auch nicht glauben, daß müglich sey die Heilige Schrifft in einiger Sprache zierlicher zu dolmetschen, als wir sie in Teutsch haben. So offt ich die Offenbahrung auch in Teutsch lese, werde ich gleichsam entzücket und finde nicht nur in den göttlichen Gedancken ein hohen prophetischen Geist, sondern auch in den Worthen selbst eine recht heroische und, wenn ich so sagen darff, Virgilianische Majestät. <…> [B]ey denen Völckern, deren Glück und Hofnung blühet, die Liebe des Vaterlandes, die Ehre der Nation, die Belohnung der Tugend, ein gleichsam erlaüchteter Verstand und dahehr fließende Sprachrichtigkeit sogar bis auf den gemeinen Man herabgestiegen, und fast durchgehendts sich spüren lasse.
[Величие нашего императора и высокое достоинство немецкой нации еще признается всеми народами <…> Он светский глава христианства и предстоятель всеобщей церкви. <…> Господь сумеет найти путь к нашему благополучию и милостиво оборонит эту империю, главную твердыню христианства. <…> Я не верю, чтобы возможно было священное писание на какой-либо язык перевести великолепнее, чем оно переведено на немецкий. Когда ни читаю я Откровение по-немецки, я словно воспаряю и нахожу не только в божественных мыслях высокий пророческий дух, но и в самых словах истинно героическое и, если позволительно так выразиться, вергилианское величие. <…> [У] тех народов, где процветают счастье и надежда, – там любовь к отечеству, честь нации, вознаграждение добродетели, просвещенный разум и проистекающая отсюда правильность языка нисходят даже к простолюдинам и являются почти повсеместно.] (Leibniz 1846, 4, 16, 18, 22–23)
Как и Лейбниц, Ломоносов в «Предисловии…» соотносит судьбу «природного языка» со «славой всего народа», уточняя, что речь идет о «великих делах Петрова и Елисаветина веку» (Ломоносов, VII, 591–592). В «Необязательных размышлениях…» Лейбниц прославляет «великие ниспосланные господом победы» («große von Gott verliehene Siege» – Leibniz 1983, 6) немцев, в том числе победы над турками, как символический аналог их культурных свершений. Сходная аналогия лежала в подтексте шуваловского письма к Вольтеру. В 1761 г. чуткий к настроениям фаворита Вольтер намеревался адресовать ему такой комплимент: «<…> у вас уже давно существуют там научные учреждения и великолепные театры, а наряду с этим воины ваши снискивают себе славу на берегах Одера и Эльбы» (ЛН 1937, 28). Как и у Лейбница, в письме Шувалова успехи языка выступают свидетельствами «добродетели» и «чести нации». И у Ломоносова, и у Лейбница причастность «природного языка» к священной традиции, воплощенная в библейских переводах, подкрепляет сакральный статус национальной империи. Сходным образом Тредиаковский в посвященном Воронцову «Слове о богатом, различном, искусном и несхотственном витийстве» (1745) утверждал, что Елизавета «не хочет другаго языка, кроме того, которым <…> Богу благочестивейшая молится, Закон христианнейшая защищает, Веру православнейшая исповедует <…> Славу своея Империи достойнешая расширяет» (Тредиаковский 1849, 581). Лейбниц, усматривавший «героическое и вергилианское величие» в языке немецкой Библии, и Ломоносов, заявлявший о преемственности «славенской» книжности по отношению к «древним Гомерам, Пиндарам» (Ломоносов, VII, 587), равно усваивали язык священных текстов политической апологетике «в неоклассическом и имперском духе» (Пиккио 1992, 147).
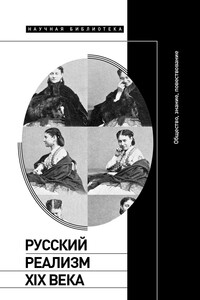
Научная дискуссия о русском реализме, скомпрометированная советским литературоведением, прервалась в постсоветскую эпоху. В результате модернизация научного языка и адаптация новых академических трендов не затронули историю русской литературы XIX века. Авторы сборника, составленного по следам трех международных конференций, пытаются ответить на вопросы: как можно изучать реализм сегодня? Чем русские жанровые модели отличались от западноевропейских? Как наука и политэкономия влияли на прозу русских классиков? Почему, при всей радикальности взглядов на «женский вопрос», роль женщин-писательниц в развитии русского реализма оставалась весьма ограниченной? Возобновляя дискуссию о русском реализме как важнейшей «моделирующей системе» определенного этапа модерности, авторы рассматривают его сквозь призму социального воображаемого, экономики, эпистемологии XIX века и теории мимесиса, тем самым предлагая читателю широкий диапазон современных научных подходов к проблеме.

Автор монографии — член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР. В книге рассказывается о главных событиях и фактах японской истории второй половины XVI века, имевших значение переломных для этой страны. Автор прослеживает основные этапы жизни и деятельности правителя и выдающегося полководца средневековой Японии Тоётоми Хидэёси, анализирует сложный и противоречивый характер этой незаурядной личности, его взаимоотношения с окружающими, причины его побед и поражений. Книга повествует о феодальных войнах и народных движениях, рисует политические портреты крупнейших исторических личностей той эпохи, описывает нравы и обычаи японцев того времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В настоящей книге чешский историк Йосеф Мацек обращается к одной из наиболее героических страниц истории чешского народа — к периоду гуситского революционного движения., В течение пятнадцати лет чешский народ — крестьяне, городская беднота, массы ремесленников, к которым примкнула часть рыцарства, громил армии крестоносцев, собравшихся с различных концов Европы, чтобы подавить вспыхнувшее в Чехии революционное движение. Мужественная борьба чешского народа в XV веке всколыхнула всю Европу, вызвала отклики в различных концах ее, потребовала предельного напряжения сил европейской реакции, которой так и не удалось покорить чехов силой оружия. Этим периодом своей истории чешский народ гордится по праву.

Имя автора «Рассказы о старых книгах» давно знакомо книговедам и книголюбам страны. У многих библиофилов хранятся в альбомах и папках многочисленные вырезки статей из журналов и газет, в которых А. И. Анушкин рассказывал о редких изданиях, о неожиданных находках в течение своего многолетнего путешествия по просторам страны Библиофилии. А у немногих счастливцев стоит на книжной полке рядом с работами Шилова, Мартынова, Беркова, Смирнова-Сокольского, Уткова, Осетрова, Ласунского и небольшая книжечка Анушкина, выпущенная впервые шесть лет тому назад симферопольским издательством «Таврия».
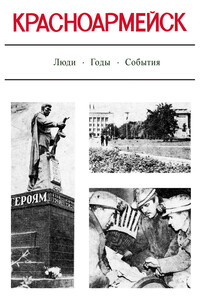
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В интересной книге М. Брикнера собраны краткие сведения об умирающем и воскресающем спасителе в восточных религиях (Вавилон, Финикия, М. Азия, Греция, Египет, Персия). Брикнер выясняет отношение восточных религий к христианству, проводит аналогии между древними религиями и христианством. Из данных взятых им из истории религий, Брикнер делает соответствующие выводы, что понятие умирающего и воскресающего мессии существовало в восточных религиях задолго до возникновения христианства.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.